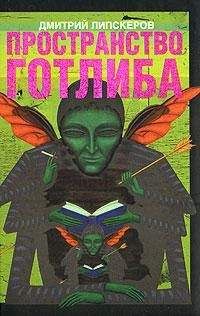Смазливый юноша-геолог, за которым помчалась моя мать к вечным снегам, за десять лет сделал себе карьеру и осел городским жителем в Москве, руководя большим отделом в Министерстве геологии. Он не бросил мою постаревшую мать, а относился к ней с вялотекущим равнодушием, а меня слегка недолюбливал, вероятно, за то, что я всего лишь восемью годами младше.
Будучи в обиде за отца, что он преждевременно умер из-за любви к матери, я мало общался со своею родительницей и отчимом, оправдываясь еще и тем, что могу помешать их жизни своими появлениями.
Мой отчим был упертым человеком и, поставив перед собою цель, всегда достигал ее. Он мог прочитать триста томов мировой литературы, начав с первого и дочитав без отвлечения даже на газеты до трехсотого. Он мог весь отпуск сам красить машину, совершенно не умея этого делать и заставляя мать скучать в душном городе. Все заканчивалось тем, что краска засыхала комьями, а отчим делал вид, что провел работы безупречно, и ездил на малолитражке с бесстрастной физиономией.
Такой идиотизм злил меня, и однажды, крепко поссорившись из-за чего-то с матерью, я сказал ей, что она – убийца, что именно она прикончила моего отца, променяв светлую мысль, рожденную любовью, на твердолобость и упертость барана!
Мать заплакала и, размазывая по щекам тушь с ресниц, сказала, что ей уже много лет и что она боится остаться одна.
– Очень страшно быть одной, сын! – говорила мать сквозь слезы. – Я знаю, что ошиблась, оставив твоего отца! Но что же теперь делать! Все ошибаются. Не суди меня слишком! Прости!
Я, конечно, сказал ей тогда, что прощаю, и даже в душе, как мне показалось, что-то повернулось к нежности, но с течением времени все опять встало на свои места, и мне так же, как отцу, хотелось указать матери пальцем на Север. Я перестал ее навещать вовсе, к тому же у меня не было для этого возможности, так как мой отряд находился в другом городе, стажируясь в специальных условиях.
Как-то от находящегося в Москве Бычкова я получил письмо, в котором он писал, что слышал о болезни моей матери, что она как будто стала заговариваться и ее положили в психиатрическую больницу.
Я позвонил отчиму, и он неохотно объяснил, что сначала матери поставили диагноз "шизофрения", но вскоре перевезли в обычную больницу, где диагноз изменили на "нарушение кровообращения головного мозга".
– Ничего страшного, – говорил отчим. – Сосуд защемило.
Я перезвонил отчиму еще через две недели и спросил, как обстоят дела на данный момент.
– Все по-прежнему, – ответил он. – Иногда все нормально, а иногда заговаривается.
– Я приеду.
– Зачем?
– Это моя мать.
– В самом деле? – спросил отчим, на что мне захотелось ответить ему что-нибудь очень грубое, так, чтобы его физиономию перекосило.
– Я приеду, – повторил я.
Мне разрешили уехать на пять дней.
Увидев ее, я понял, что она умирает. Мать лежала на спине на очень узкой кровати. На ее голову была надета вязаная шапка, из-под которой торчали седые пряди волос, а губы ввалились в рот, так как зубной протез был вытащен. В палате помимо матери находились еще восемь человек, в основном старухи, рты которых были также обнажены и зияли черными дырами.
– Здесь ночами холодно, – пояснил отчим про шапку.
– Она умирает! – удивленно сказал я.
– Ты так думаешь? – спросил отчим, слегка тормоша мать за плечо. – Она часто приходит в себя. Сосуд, понимаешь ли, защемило в голове.
Я поднялся на этаж выше, где находился кабинет дежурного врача, и спросил у него, равнодушного, диагноз моей матери.
– Нарушение кровообращения головного мозга, – подтвердил дежурный.
– Инсульт?
– Да. Так называют инсульт.
– Сильный?
– Наверное. У них в этом возрасте так часто бывает.
– Она умрет?
– Вы знаете, статистика в таких случаях говорит, что есть основания считать… – Неожиданно врач прервался, устало вздохнул и сказал:
– Да. Скорее всего, она умрет.
– Она пришла в себя, – прошептал отчим, когда я вновь спустился в палату.
У нее были закрыты глаза, но открыт рот, в который отчим засовывал кусочки творога, а мать посасывала его и проглатывала.
– Открой глаза, – строго сказал ей муж. – Слышишь! Евгений пришел.
Она открыла глаза и равнодушно посмотрела на меня.
– Мам, ты меня узнаешь? – спросил я.
Она слегка кивнула, затем сухо закашляла и закрыла глаза.
– Опять отключилась, – констатировал отчим.
– У нее инсульт. Кровоизлияние в мозг.
– Да?!
Голос у него дрогнул, отчим посмотрел на меня очень открыто, и я понял, что он действительно думал, будто у матери просто-напросто спазм, который скоро отпустит, и все вернется на свои места.
– А что делать?
– Ее надо перевести в хорошую больницу. Я завтра этим займусь.
Весь вечер я обзванивал знакомых, договариваясь с ними насчет хороших врачей и приличной больницы. Бычков сидел в своей квартире и так же, как я, накручивал диск телефона, отыскивая хорошие лекарства.
Я опоздал на одну минуту.
– Она только что умерла, – сказал дежурный врач, когда я с предписанием на госпитализацию в лучшую клинику на следующее утро пришел в больницу.
Над ее кроватью склонились несколько медсестер, а врач, отойдя от покойной, спросил меня:
– Она никогда не жаловалась на почки?
– Не знаю, – ответил я. – Дело в том, что я в последние годы почти с ней не общался.
Врач понимающе кивнул и развел руками.
– Свидетельство о смерти возьмите в морге. Мне нужно идти.
Он ушел. Вслед за ним потянулись и сестры, оставив мать на кровати с открытым лицом.
Она лежала в вязаной шапке, с закатившимися глазами, губы трубочкой, и я вспомнил, как мать в детстве поддразнивала меня, вот так же вытянув губы в трубочку. Мне жутко это нравилось, и я, заливаясь смехом, шлепал ладошкой по ее губам, а она в ответ фыркала.
Мы хоронили ее, я с удивлением смотрел на отчима, вмиг постаревшего. Он гладил мать по волосам, что-то неразборчиво бубнил, и я понял, что он ее любил. По-своему, но любил.
На миг мне показалось, что сейчас он достанет геологический молоток и вобьет с помощью него в гроб гвоздь.
Со смерти матери я больше не видел отчима… А через четыре года началась война. Меня всегда к ней готовили. Но не к стрельбе из окопа, не к поездкам в танке или полетам на самолете. Я был обучен выполнять специальные задания.
Японцы продвигались чрезвычайно быстро. В течение двух дней они захватили весь Сахалин, а к концу следующей недели хозяйничали на материке. С другой стороны навстречу маньчжурам двигались греки, и хоть не таким интенсивным было их продвижение по нашей территории, но Кавказом они овладели за десять дней. Президент Греции Дезаракис, проехавший по центральным улицам Тбилиси в бронированном лимузине, удивлялся, что в Грузии такой же климат, как и у него на родине, а апельсины не растут.
– Грузины – варвары! – вещал на весь мир Дезаракис. – Они не способны вырастить даже апельсинов! Только в Ботаническом саду! Чего же удивляться, что во всей России не приемлют Метрической системы!
Президент Японии Китава не делал никаких заявлений, как, впрочем, и его император. Главные лица страны хранили доблестное молчание, как и подобает настоящим самураям, а их солдаты ловко рубили некоторые русские головы, объясняя остальным, что метр есть самая передовая единица измерения! В деревнях и селах они назначали старост из лояльных и вручали им деревянные линейки длиною в метр.
– Это называется метл! – объясняли японские полковники, вознося над головою линейки. – Тепель вы бутите бекать на стометловку, а не на двести тлинадцать сазеней! Тепель от Москвы до Тулы не двести двенасать велст, а двести километлов! В Останкинской телебасне не тысяся двести сазеней, а пяссот сездесят метлов!..
Вслед за деревянным метром в ход шла и другая наглядная агитация. Народу, к примеру, показывали мешок с пшеницей и объясняли:
– Десь не два пута, а тлитсать два килаглама.
Или, указывая на цистерну:
– В цистелне не сто тысясь четвелтей спилта, а тлиста тонн! И так далее.
Надо сказать, что многие поддались на вражескую агитацию и мало-помалу стали все мерить на метры и километры, взвешивать на граммы и килограммы, а выливать из емкостей и вливать в них литрами.
Безусловно, вся страна считала повинным в Метрической войне ее идеолога Прохора Поддонного. Самый главный предатель за всю историю России, уроженец села Вонялы, за день до войны он умудрился сбежать из-под бдительного ока спецслужб и переехал в Токио. В японской столице он облачился в кимоно, стал кушать суши и пить горячую водку саке, прославляя на весь мир японский образ жизни.
Раз в неделю Поддонный давал интервью какой-нибудь известной телекомпании, а та тиражировала его речи по всем мировым телеканалам.
– Япония – величайшая страна мира! – провозглашал Прохор. – Ее многовековая культура и образ жизни должны стать эталоном для всего человечества! И Америка, и затхлая Европа с ее ленивыми жителями должны повернуть свои головы в сторону Страны восходящего солнца, подставляя уши мудрым советам азиатского колосса!.. Я надеюсь, что через какие-нибудь считанные месяцы все дети России с семилетнего возраста начнут заниматься карате, а женщины примутся изучать великое искусство японских гейш!..