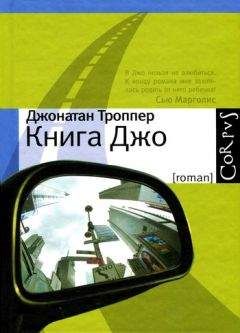— Не сильно ушиблась?
— Ты меня напугал.
— Я не хотел… прости.
— На лед нельзя без коньков, запрещено.
— Да, конечно. — Я отступаю за дверцу, на резиновый коврик.
Пенни подкатывает к бортику и смотрит на меня в упор — долго, оценивающе. Потом извлекает из кармана ключ на цепочке.
— В отделе проката есть хоккейные коньки. Возьми себе пару и выходи на лед.
— Да я как-то не планировал кататься.
— А я не планировала грохнуться на задницу на глазах у любви моей юности. Но в жизни не все идет по плану. Надевай коньки.
— Вот не знал, что я — любовь твоей юности.
Пенни усмехается:
— Ну, партнер по сексу.
— У нас и секса-то толком не было.
— И не будет, если ты и дальше станешь к словам цепляться.
Хоккейные ботинки пахнут, словно внутри кто-то сдох. Я тщательно шнурую их доверху и через пять минут стою на льду.
Я не катался миллион лет, а в хоккей в последний раз играл еще до женитьбы, но мастерство, как говорится, не пропьешь. Пока я надевал коньки, Пенни приглушила освещение и запустила серебряный шар, как на дискотеке. Так что теперь мы с ней кружим под Синди Лаупер, под ностальгическую песню «Всегда-всегда», словно летим сквозь звездную вселенную. Впору представить себя героем романтической комедии, произнести что-то предсказуемое, но важное, и — когда музыка достигнет кульминации — поцеловать Пенни в самом центре катка. Счастливый конец гарантирован. Если ты заблудился, скорей оглянись — я тебя жду всегда, всегда… Пенни и раньше обожала романтические спецэффекты, типа прыжков в фонтан в одежде или долгих поцелуев под проливным дождем. Она воображала, как Ричард Гир в сине-белом костюме морского офицера уносит ее с фабрики под венец, мечтала сказать Тому Крузу, что влюбилась в него с первого взгляда. Но сейчас счастливые концы нам не по зубам, мы далеки от них, как никогда. Прошло столько лет, мы друг другу почти чужие, мы просто прикидываемся, будто по-прежнему близки — каждый по своим сугубо личным, печальным причинам. Я даже не знаю, почему пришел на каток: потому что когда-то был влюблен в Пенни или просто от отчаянного одиночества и потребности в сексе, а наше прошлое позволяет мне, после всех последних обломов, надеяться на некое будущее. Но в Пенни есть что-то не от мира сего, странная она какая-то. И я не должен сейчас тут быть. Я должен вернуться домой — оплакивать отца, готовиться к собственному отцовству. И делать все возможное, чтобы оклематься от любви к Джен. Ни на что не отвлекаясь.
И все же… Кожа Пенни сияет на фоне льда, волосы выбились из-под шапочки, развеваются, а она скользит рядом со мой, нездешняя, но прекрасная. Скосив глаза, я вижу ее профиль, нос с легкой горбинкой, точеные скулы, огромные, полные надежды глаза, которые — я помню — мгновенно наполняются слезами. Если ты будешь падать, я подхвачу, я рядом всегда, всегда…
— Хочешь, возьмемся за руки? — предлагает она.
Я смотрю: шутит или всерьез? Нет, не шутит. Я порываюсь сказать ей о ребенке, но что-то меня останавливает. Я хочу сказать, что еще не привык к новым реалиям своей жизни, но — молчу. Наверно, правда проще и примитивнее, чем любые слова. Я беру Пенни за руку, и мы скользим сквозь вращающиеся созвездия. Ее рука — в черной вязаной перчатке, моя онемела от холода и напоминает заиндевевшую клешню. Я ею почти ничего не чувствую. С таким же успехом я мог бы держаться не за руку Пенни, а за что угодно.
12:55
Толстый дядька с усами, как у моржа, позвякивает связкой ключей — он пришел открывать каток для посетителей. Помахав Пенни рукой, он исчезает в каких-то служебных помещениях. Вскоре умолкает музыка, зажигается свет, а звезды, наоборот, гаснут. Мы, не сговариваясь, разжимаем руки. Какие уж тут нежности — под бьющим дневным светом? Человек-морж появляется снова, на видавшем виды ледовом комбайне «Замбони».
— Знаешь, что было бы здорово? — спрашивает Пенни у бортика.
— Что?
Она задерживает на мне взгляд. А потом говорит:
— Ничего, забудь.
— Перестань. Что ты хотела сказать?
— Момент упущен. — Она с улыбкой пожимает плечами. Я одним пальцем высвобождаю тонкую прядь волос, зацепившуюся за уголок ее рта.
— Спасибо, что позвала кататься. Как раз то, что мне надо.
— Я рада, что ты заглянул.
Один из нас лжет. А может, и оба.
13:00
У Пенни начался первый урок, а Филипп, естественно, опаздывает. Я сижу на скамейке около стоянки и смотрю, как подъезжают другие тренеры — стройные женщины в крошечных детских футболочках и обтягивающих легинсах, не оставляющих никакого простора для воображения. Они радостно машут друг другу, смеются, и тела у них, как у Пенни, литые, загорелые, а походка упругая, спортивная. Я подтягиваю живот и улыбаюсь в ответ на их улыбки, изо всех сил стараясь не показать, с какой жадностью я разглядываю их аппетитные, упругие попки, которые — в этих тесных легинсах — нельзя не заметить даже с другого конца футбольного поля.
13:35
Филипп везет меня домой, и настроение у него явно подпорчено. За это время он открыл у «порше» крышу, а солнце на пике дня изрядно припекает, растапливая внутренний озноб, застрявший во мне после часа, проведенного на льду. Филипп лихо подкатывает к дому, и какое-то время мы просто сидим — готовим себя к тому, чтобы войти.
— Если б мы жили не в тупике, я бы так и ехал… — говорит Филипп. — Все дальше и дальше.
— Мне это знакомо, братишка. Но твои проблемы потянутся за тобой.
— Слабо им, у меня быстрая машина. Как покатался?
— Странновато. А как твоя тайная миссия?
— Вовсе не тайная, — отвечает Филипп. — Мне нужно было побыть одному. Привести мозги в порядок.
— Привел?
— Нет. Так сказал. Для красного словца.
Мы грустно улыбаемся друг другу. Именно сейчас, сидя в машине рядом с младшим братом, я вдруг понимаю, что мы никогда больше не увидим отца, и ощущаю пустоту, физически, где-то в глубине живота. В детстве мы с Филиппом, еще совсем маленьким, любили развлекать папу так: Филипп сидел у меня на руках, изображая куклу, я изображал чревовещателя, а потом Филипп вдруг изворачивался, целовал меня в щеку, я орал на него, а он говорил «прости» надтреснутым мультяшным фальцетом. Отец почему-то смеялся до посинения. Мы не знали, что именно вызывает у него такое безудержное веселье, но были счастливы, что можем его рассмешить, и делали эти при каждом удобном случае. А потом вдруг перестали. Может, папе было уже не смешно, может, я решил, что вырос из этой детской забавы, может, Филиппу все это наскучило. Никогда заранее не знаешь, когда ты в последний раз увидишь отца, поцелуешь жену, поиграешь с братом, но последний раз случается всегда, неизбежно. И если помнить все эти последние разы, вся жизнь будет исполнена печали.
— Филипп, — говорю я.
— Да.
— У тебя футболка наизнанку надета.
— Правда? Вот черт. — Он стягивает ее через голову. — Значит, я целый день так хожу.
Я медленно киваю, соглашаясь с его ложью. Я стар. Мне грустно и не до разговоров.
— Все бывает, — говорю я. — Жизнь — штука причудливая.
15:20Сегодня приз за Перетягивание одеяла на себя во время шивы получает Арлин Блайндер, тучная соседка с кислой миной и темными варикозными сгустками на толстых, пятнистых ножищах. Описание, чего уж греха таить, нелестное, но и видок с наших низеньких стульев открывается не из приятных: необъятные раздвинутые ноги, уходящие вглубь целлюлитными валиками, а выше — слои подбородков и волоски в ноздрях. Короче, трудно представить более далекую от совершенства человеческую особь, чем Арлин Блайндер. Белого пластикового стула под ней даже не видно — точно она втянула его в свои телеса без остатка, только тоненькие металлические ножки кряхтят и стонут от каждого ее движения. Эдвард, муж Арлин, тощий и длинный, как кочерга, сидит подле жены молча, и это, похоже, его постоянное состояние. Где-то, должно быть, есть контора, куда он ходит, работа, которую он делает, но умеет ли он разговаривать, доподлинно известно только Арлин.
— Мы расширяем кухню, — говорит она, словно отвечает на никем не произнесенный вопрос. — И это сущий кошмар. Сначала, когда они рыли котлован для пристройки, оказалось, что в земле лежит огромный камень, величиной с целый автомобиль. Пришлось пригнать кучу техники, и они его в конце концов выковыряли. Два дня на это угрохали. Потом вырыли-таки котлован, и тут вдруг выяснилось, что старый фундамент, на котором стоит кухня и весь дом, совсем раскрошился и его необходимо укрепить. О чем только думают эти люди?! Ведь это еще пятнадцать тысяч на ветер! Если б я знала наперед, во что это выльется, и затевать бы ничего не стала.