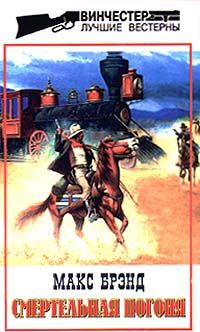«Как это наважденно и мышеловно», — грустно усмехнулся Робер.
Они шли дальше. Пожимали руки. Слушали жужжание фламандской речи. Видели маски. Музыка кружилась и кружилась. Они выходили из одного приземистого кирпичного дома старинной кладки, ступали по сверкающему на солнце снегу, проходили под арками и останавливались перед другим приземистым кирпичным домом старинной кладки; звонили, скрипел ключ, они входили — маски, рукопожатия, сбивчивые речи.
— Все, я готов.
— Не ходи дальше. Хочешь, я скажу патрону?
— Ни в коем случае.
Он не сказал: «Я не имею права», — но Оливье понял.
— Эх, горемыка ты мой! Антоний несчастный. Не святой, конечно, но мученик.
— Можешь не объяснять. Ничего, пройдет.
Поначалу Робер решил делать кое-какие пометки в блокноте и — не смог. Ему казалось, что он таким образом оскорбляет больных. Ему было стыдно. И потом он рассчитывал на свою память, правда, на сей раз она часто давала осечку. А все-таки ремесло сценариста натренировало ее. Она фиксировала наиболее яркое, а менее характерное пропускала. Так она запечатлела «любителя рыбок» — уроженца Верне, он говорил только о рыбках, интересовался только рыбками; молодого человека из военных, слишком хорошенького, чтобы быть солдатом, с тенями под глазами; одного слепоглухонемого, двух слабоумных, которые день и ночь стонали и метались: санитары одного привязали к кровати, а другого держали в смирительной рубашке, кормили с ложечки. Лица мелькали перед ним, как в дурном сне, но чаще других в памяти всплывало лицо Ван Вельде, который вероятнее всего умрет; а еще — снег, кирпичи цвета свежего мяса, рождественские ясли, духота помещений, холод на улице… тепло, ключи, холод, маски…
Они шли дальше. Всюду то же: казарма, музыка, тунец, бифштекс, жареный картофель, слабое желтое пиво в казенных стаканах. Всюду маски.
Какой-то дебил сердится. Оливье объясняет:
— Он из тех, кто все умеет. Он самый нужный, самый главный. «Если желаете, я могу его заменить», — предложил он нам однажды, ткнув пальцем в главврача.
В глубине узкого коридора — как у Пиранезе — сидел прямо на полу человек и, подвывая, быстро-быстро говорил на каком-то тарабарском наречии.
— У него случались припадки еще в детстве, с тех пор ничто не изменилось и вряд ли изменится.
Причесанный а-ля Марлон Брандо, так что черные волосы до бровей закрывали низкий лоб, парень истово раскачивал своей пирамидообразной головой, кося черными монгольскими глазами. У него были оттопыренные уши, приплюснутый, как у боксера, нос, а над верхней губой, кривившейся в бессмысленной ухмылке, росло несколько белесых волосков.
— На прошлой неделе я разговаривал с его родственниками, уроженцами Лиссвеге, так они мне заявили: «Какая жалость, — ведь он у нас умница». Умница! Идиот законченный!
— Интересно, что происходит в его голове?
— Я думаю, ничего. Во всяком случае, ничего, что можно выразить словами. Кстати, у нас есть один любопытный документ — магнитофонная запись бреда больного, напомни мне, я дам тебе послушать.
Отвратительной наружности тип, забравшийся с ногами на постель, кривляясь и паясничая, выкрикнул им навстречу:
— Это не рис, не рис, не рис, это собачья похлебка — вот что, похлебка, слышите!..
Он омерзительно брызгал слюной, оплевав все вокруг себя. И вид у него был очень довольный, как у солдата, который не побоялся сказать своему генералу, что пища, которой их кормят, никуда не годится. От стола поднялся худой человек с лихорадочно блестевшими глазами. Над ним, оказывается, измывается некая колдовская сила. Он рассуждал, как нормальный, этот голландец из Брюгге. Но что толку! Другой больной, как заведенный, ходил вокруг стола, за которым сидели его товарищи, — баран, заболевший вертячкой, да и только!
— А вы не хотите есть, мосье? — спросил его Эгпарс.
Тот промолчал. Эгпарс заставил себя повторить вопрос по-фламандски. Мужчина улыбнулся, но ответом его не удостоил. Он презирает все и вся. Он ходит.
И он завертелся в голове у Робера. Нет, это уже было слишком! Настолько слишком, что Робера затошнило. Он вышел в коридор и остановился у окна, что смотрело во двор: деревья четко вырисовывались на фоне монастыря, желтовато-розового в этот час, как много раз стиранная юбка. Роберу стоило труда овладеть собой. Нет, это гораздо хуже, чем «разыгранная» для телевизора хирургическая операция!
Серебряные часы на башне пробили двенадцать — полдень наступил, великолепный фламандский полдень: легкий, прозрачный, струящийся.
Итак, наступил полдень — двадцать третьего декабря тысяча девятьсот пятьдесят шестого года. Солнце усердствовало, и северная юдоль скорбей ожила, однако снег не таял. Эгпарс обходил с гостем свои владения, а улей — больница — жил своей обычной жизнью, которая в полуденные часы становилась особенно активной. В корпусах, в интернате, в кухнях сновали и суетились люди.
Шеф-повар, со страдальческим — из-за больной печени — выражением лица, усовещивал по-фламандски помощников: они не спешили уносить кастрюли, а пища остынет, пока дойдет до больных, за что он, шеф-повар, наверняка получит нагоняй от главврача.
Три монахини выходили из часовенки, вся южная сторона которой пылала под солнцем. Они украшали алтарь к завтрашнему дню.
Скучающая, усталая, раздраженная, не находящая себе места Жюльетта решила все-таки выйти во двор, чтобы девочка — она ее хорошенько укутала, так что Домино стала походить на маленькую эскимоску — могла подышать свежим воздухом. Вид снега вызывал у Жюльетты озноб, а солнце, в чьих лучах нежилась часовенка, оставило ее равнодушной. Она лениво перебирала в уме эпизоды из Истории О., — в общем, гадкая книга. Она закончила ее сегодня утром. Стоило тратить время на такую дрянь! О, она все выскажет Оливье, когда он придет завтракать. Она ненавидит его, и она просто дура, что еще раньше не положила конец этой преступной дружбе. У нее здесь ни к чему душа не лежит. Поездка сюда — худшее оскорбление, какое мог нанести ей муж, она не простит ему этого. Ей пришлось стерпеть, что мажордом нарезает телятину. И завтрак будет готовить он! Она, хозяйка, вынуждена подать в отставку, так нестерпимо неуютно ей здесь! А — плевать! В конце концов, это обязанность мажордома, даже если ему и не платят специально. Здесь она для них пальцем о палец не ударит, начиная вот с этой самой минуты.
Нет, Жюльетте решительно не везло! Не успела она выйти из дому, как Улыба кинулся в погоню за Домино, которая бегала по двору. Жюльетта хотела крикнуть, но не смогла: ее парализовал ужас.
Девочка весело прыгала и кричала Пьетеру: «А вот и не поймаешь!» Они играли! Отвратительно. Мерзко. Чудовищно. Они играют. Ее ребенок и сумасшедший! Жюльетта хотела позвать дочь, но слова застряли у нее в горле. Словно в каком-то кошмаре она увидела, как сумасшедший догнал девочку и потянул за пальто. Домино заливалась смехом. Улыба что-то говорил и что-то сунул ей в руку. Вся сияя, она направилась к матери с этими невыносимыми ужимками маленькой женщины, которые приводили Жюльетту в отчаяние.
Улыба, следовавший за девочкой, радостно кричал Жюльетте: «Н’даг! Н’даг! Н’даг!» Она не поняла, что это мычание означает приветствие.
Жюльетта схватила Домино за руку, силой разжала ей пальцы и, увидев три конфетки в блестящих обертках, немедленно изъяла их у дочери. Она испытывала непреодолимое желание выбросить конфеты, но сдержалась. Какой-то смутный голос подсказал ей, что она не должна так делать. И она положила конфеты в сумку. Улыба что-то быстро-быстро с чувством объяснял ей. С минуту она постояла в нерешительности. Девочка плакала. Тогда вконец измученная Жюльетта схватила упирающуюся изо всех сил Домино и потащила ее по снегу к крыльцу. Дети ей тоже опротивели. Дальше так не могло продолжаться.
Пьетер остановился в нескольких шагах и молча в недоумении наблюдал за происходящим, по инерции продолжая улыбаться, но постепенно улыбка сходила с его лица.
И тут Жюльетта, увидев, что за ней наблюдает «полоумный», который, может, еще и осуждает ее, дала волю ярости. Она отхлестала по щекам упиравшуюся Домино, втолкнула девочку в дом, хлопнула дверью и, бессильно привалившись к оконной раме, положила руку на сердце.
Улыба бросился было бежать за вороной, которая устроилась неподалеку, но во двор влетел мотоцикл, и он едва успел отскочить в сторону. Второй ординатор, Фред Дюбек, в кожаной канадке на цигейке, в клетчатом платке, обернутом вокруг шеи и наполовину скрывавшем лицо, прислонил мотоцикл к стене и вошел в дом.
Жюльетта уже успела подняться к себе на второй этаж и все никак не могла отдышаться. Домино громко плакала, тогда Жюльетта подошла к двери и закрыла ее на ключ.