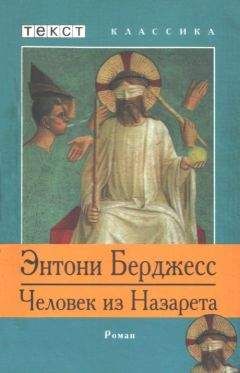— Я понимаю, что ты глупец и тряпка!
— Как же мне все это надоело! — пробормотал Ирод, поднимаясь из-за стола и откладывая в сторону трактат Френозия о теле и духе (на пергаменте остались следы его липких пальцев).
Он подошел к Иродиаде и со страшной силой ударил ее по щеке своей липкой рукой, прибавив: «Вот тебе!»
— Дурак, негодяй и трус! — выкрикнула Иродиада и бросилась прочь.
— Скажи еще, — проронил Ирод ей вслед, — что я нарушаю супружеский долг и что у меня начисто отсутствует мужская сила. Глупая женщина.
Саломея, будучи всего лишь девочкой и находя жизнь во дворце довольно скучной и неинтересной (за исключением лишь тех случаев, когда наказывали слуг), однажды незаметно пробралась в коридор, из которого доносился рокочущий голос Иоанна. С широко открытыми глазами, будто зачарованная, слушала она его крики «Покайтесь!» и угрожающие предупреждения о приходе того, кто «солому сожжет огнем неугасимым». Подошедшие стражники мягко предупредили ее:
— Просим вашего царского прощения, госпожа, но вам лучше держаться отсюда подальше, это место не для вас. Он грязный весь, больной, на нем полно блох. Да и голый он, барышня, то есть Ваше высочество, вам не пристало смотреть на него.
— Голый?
— Олоферн[87], да и только, — произнес стражник и улыбнулся, подумав, что Саломея может и не знать, какой смысл он вкладывает в это слово.
— Олоферн? Это был человек, которому Иудифь отрезала голову. Но что ты имеешь в виду?
— О, мы используем это имя в другом смысле, надеюсь, вы не обиделись.
Перед ними была пухленькая аппетитная штучка в шелестящем шелковом платье с разрезом чуть выше колена, маленького прелестного колена, и среди них не было ни одного мужчины, который не хотел бы… Но она принцесса, и следует быть осторожным, ведь она, как и большинство хорошо развитых девочек в этом возрасте, знает, вероятно, меньше, чем кажется на первый взгляд. Иначе говоря, ее тело знает больше, чем ее ум.
— Наш вам совет, барышня, то есть госпожа: держитесь отсюда подальше.
Несмотря на этот совет, иногда посреди ночи, когда стражники, пренебрегая своими обязанностями, дремали, а сам узник забывался в тяжелом сне, Саломея тайком пробиралась из своей спальни к его яме. Она садилась на решетку и смотрела вниз. При слабом свете коридорной лампы она почти ничего не видела, но испытывала какое-то неясное волнение. Иногда Саломея ложилась лицом вниз на холодные, ржавые железные прутья, и проснувшийся Иоанн видел две маленьких груди, прижатые к решетке, раскинутые руки, девичье тело, неподвижно застывшее в позе пловца. Они смотрели друг на друга и оба молчали. Олоферн… Что они имели в виду?
В Назарете Иисус готовился к первой ступени своей миссии. Как-то раз когда он шел с работы, довольный тем, что мастерская в хороших руках и будет приносить матери достаточно денег, его остановил Иофам:
— Такое хорошее дело, а ты оставляешь его на этого деревенщину. Знаю я эту семейку. Среди них нет стоящих людей.
— Я не сомневаюсь, что ты присмотришь за ним.
— Буду глядеть в оба. Все опилки пересчитаю. Никому из их семейки не доверяю, а твоя мать — не деловая женщина. Я ее годами обсчитывал, она же так ничего и не заметила.
— Ах, Иофам, Иофам! Старый лгун! Но я должен делать то, что мне предназначено.
— Следовать за этим Иоанном Крестителем, как его называют?
— Можно сказать и так. Да, я последую за ним.
— В тюрьму? На смерть?
— Если потребуется.
Иофам тяжело вздохнул:
— Ты безумец, конечно. Ты пополняешь собой мировое безумие. Миру нужны добропорядочные, уважаемые люди, которые занимаются каким-то ремеслом, которые видят, что времена нынче скверные, и держатся от скверны подальше. А ты идешь неизвестно куда. Тьфу! В некотором смысле хорошо, что твоего отца — порядочный был человек! — уже нет в живых. Он, по крайней мере, не видит этого позора. Говорю тебе, все вокруг безумие и скверна!
Иисус улыбнулся. Дома, в разговоре с матерью, он сказал:
— Я ухожу на сорок дней и сорок ночей.
— Почему? Почему? — Немного осерчав, Мария вывалила ему на блюдо еще баранины в пряном соусе и с шумом плюхнула на стол буханку хлеба из пекарни Иофама. — Ешь. Ешь сколько сможешь, сынок. — И снова: — Почему?
— Я должен подвергнуть испытанию свою стойкость против зла. Я должен испытать ее на нижнем пределе моих сил.
— В пустыне? Но в пустыне нет зла. Зло — в том мире, который создал человек. Нет нужды говорить тебе об этом. Ты убьешь себя, и это будет единственное зло, которое ты найдешь в пустыне. Ты потеряешь сознание и высохнешь, тебя съедят стервятники!
— Думаю, этого не произойдет. Я крепкий. Последние тридцать лет ты хорошо кормила меня. Я буду пить воду, когда смогу найти ее.
— Когда сможешь найти!
— Зло… — произнес он. — В тебе, мама, нет зла, но в себе я иногда слышу вой демонов. В мире есть два вида зла: одно происходит по воле самого человека, другое вползает в него вопреки этой воле, при содействии дьявола. Я должен открыться отцу зла и победить его. Он будет искушать меня, чтобы я соединил свою волю с его волей — на свою погибель. Но меня ему не одолеть. Потом, через сорок дней и сорок ночей, я смогу идти дальше и бороться со злом, которое творит человек. И с бесами тоже, ибо от них исходит зло. Невинность поражается злом из вместилища зла, — добавил он, дочиста вытерев блюдо куском хлеба.
Проглотив хлеб, Иисус невнятно произнес:
— Ты не должна тревожиться.
— Не должна что?
— Тревожиться.
Этой ночью он спал крепко и проснулся с первыми петухами. В утренней прохладе, стараясь не разбудить мать, он как следует напился воды из колодца и вышел на пустынную улицу. Небо на горизонте начинало светлеть. Иисус пошел на восток — в сторону пустыни. Петухи кричали так, будто сам дьявол бросал ему вызов.
ПЕРВОЕ
Через десять дней Иисус нашел сверкавший на солнце чистый родник. Начав пить, он увидел в воде худое, изможденное лицо, которое приближалось, чтобы коснуться его языка своим. Он улыбнулся, и отражение ответило ему измученной улыбкой.
Образы, лица и голоса, которые наплывали на него во время тяжелого, беспокойного сна, его бредовые видения в полуденное время были — он знал это — плодом его больного воображения. И только один голос — голос матери — возвращал его в то состояние, которое люди вроде Иофама назвали бы здравомыслием.
«Я неважно себя чувствую, сын, а ухаживать за мной некому. Возвращайся немедленно. По милости Божьей я могу говорить с тобой, когда ты так далеко, и знаю, что ты меня слышишь. Возвращайся, сынок. Я чувствую боль в правом боку — словно оружие пронзает его. Я едва могу дышать. Я не перенесу этой муки. Возвращайся скорее».
Был ясный день, и казалось, что голос звучал не в его собственной голове, а шел от скопления небольших скал, усеянных белыми иссушенными костями птиц.
— Нет, мама, я не могу, ты знаешь.
«Оружие проходит мое сердце, сын. Сбывается пророчество, которое я слышала в Вифлееме. Немедленно возвращайся к своей матери. Дай мне исцелиться. Давай будем снова счастливо жить вместе».
— Я должен забыть взятое на себя обязательство и жить, как живут другие?
«Ах, мой дорогой сын, об этом мы поговорим в другой раз — когда мне будет лучше. Ты знаешь, что ты должен делать. Боль нестерпима. Возвращайся ко мне. Я попрошу жену Иофама, чтобы она приготовила для тебя тушеную баранину с травами и свежий хлеб. Ты голоден, ты болен. Я умираю от мысли, что ты погибаешь в пустыне».
Иисус горько усмехнулся:
— Итак, наконец-то ты появляешься. Слышен только голос, но я чувствую твое присутствие по запаху. Прочь, отец зла!
«Сын, сын, ты бормочешь глупости, в твоих словах нет смысла. С тобой говорит твоя любящая мать. О, как я страдаю!»
— Я затыкаю уши, чтобы не слышать тебя. Ты хорошо подражаешь голосу моей матери, но интонация выдает тебя: там, где ее голос падает, твой — повышается. Можешь говорить дальше, если хочешь, но твои старания напрасны.
Затем наступила тишина. Часом позже раздался пронзительный страдальческий крик: «Исцели, исцели меня, сын! Сними мою боль! Я не в силах перенести ее!»
— Нет, я не пойду домой.
«Тебе, разыскивающему зло, нужно заглянуть в свое собственное сердце. Ты злой мальчик! О, боль сжигает меня, как огонь!»
Иисус заколебался. Это был стон его матери, и он заставил его вздрогнуть. Он посмотрел на запад — в сторону дома. Его мать больна, и сам он болен. Здесь он не может сотворить добро. Зло — в мире людей, и он должен немедленно напрячь все свои силы, чтобы сразиться с ним. Высоко в небе кружили стервятники: один, два, три… Они всегда чувствуют, когда их ждет такой подарок, как высохшее мясо. Еще немного, и они жадно сорвут с падали ее отвратительный покров, затем сокрушительный удар клюва, и вот уже выдрана первая большая полоса сухого, но вкусного мяса, а под ней самое лакомое — влажная, мягкая плоть.