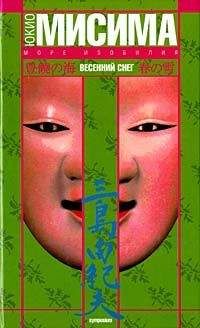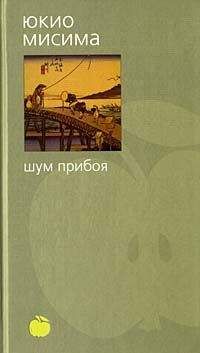Я описал, что было, и теперь у меня пропала смелость двигаться дальше. Ведь мое нынешнее положение внешне ничем не отличается от положения бездельничающих десятилетних мальчишек, которые живут неосознанно. И как бы я низко ни поступил, Момоко ничего не почувствует. Поэтому я решил положиться на чувства. Это будет неожиданно прямодушно. Если я так поступлю, то, подобно тому как при отливе дно обнажается во всем своем безобразии, обнаружатся логические противоречия самого моего существования, но больше всего хлопот доставит отлив, если до этого не дойдет. Ведь при определенном уровне воды я пройду через точку, в которой мое раздражение будет точно таким же, как у любого подростка, а заставляющая хмуриться печаль — иметь точно такие же причины, как печаль моих ровесников. И будет ужасно, если Момоко застигнет меня в такой момент.
Неверно полагать, что женщина постоянно страдает от мучительного вопроса: любима ли она. Я хочу как можно скорее подвести Момоко к этому вопросу, но этот маленький проворный зверек никак не заходит внутрь изгороди. Если я даже прямо заявлю: «На самом деле я тебя не люблю», это будет бесполезно. Она решит, что я солгал, только и всего. Остается только выждать некоторое время и заставить ее ревновать.
Мне иногда приходит в голову мысль, может быть, я изменился отчасти оттого, что тратил столько чувств, встречая и провожая эти многочисленные суда. Вряд ли это прошло абсолютно бесследно для души. Корабль рождался из моего сознания, рос на глазах, становился огромным, обретя «имя», становился реальным… До этого момента я был связан с ним, а после его захода в порт и до выхода из него он жил в другом мире, а я, имевший дело с множеством кораблей, легко забывал каждый. Но мне не дается трюк быть попеременно то кораблем, то портом. А женщины требуют именно этого. Вот ты уже и органами чувств реально ощутил то, что было в сознании, — женщину, а она теперь ни за что на свете не хочет покидать порт.
Работая сигнальщиком, я всегда испытывал тайную гордость и радость, когда постепенно становилось реальным то, что появлялось на горизонте сначала в моем сознании. У меня не возникало чувства, будто нечто создается при помощи рук, протянутых из другого мира, и эти руки куда-то переносят мой мир. Я не чувствовал себя вывешенной сушиться рубашкой, которую в спешке уносят с улицы, потому что пошел дождь. Там не было дождей, из-за которых Мое существование перенесли бы внутрь мира. Я верил, что чувства по-настоящему помогут в том случае, если моя проницательность станет требовать усилий ума. Ведь корабль обязательно проходил, корабль не останавливался. Морской ветер превратил все в пятнистый мрамор, солнце обратило душу в кристалл.
Я был оригинален. До жалкого оригинален. Когда же она появилась, эта привычка — всякий раз, коснувшись человеческого, мыть руки, чтобы на них не остались микробы? Люди считают это просто необычной чистоплотностью.
Мои несчастья кроются в том, что природа меня не признает. Природа, обладая общими законами, должна быть твоим союзником, но «моя» природа таковой не была, а потому вполне естественно, что она меня отвергла. Но я отнесся к этому легко. Меня никогда не баловала жизнь. Я постоянно чувствовал тень того, кто норовил меня обидеть, и, напротив, стал осмотрительно тратить легкость, непременно появлявшуюся всякий раз, когда обиду наносил я. Это, пожалуй, можно назвать заботой. Но само слово «забота» вызывает у меня ощущение какой-то трудно пережевываемой усталости.
Мне казалось, что грандиозные проблемы возникновения мира, сложнейшие международные вопросы не идут ни в какое сравнение с проблемами моего собственного существования. И политика, и идеология, и искусство были для меня лишь арбузной коркой, арбузными объедками, выброшенными летом на берег прибоем, эти корки выгрызли до белой части, красной мякоти осталось совсем немного, она напоминала прозрачную утреннюю зарю, окрасившую небо. Я ненавижу простых людей, потому что понимаю, что именно у них есть возможность прожить длинную жизнь.
Когда я представлял себе, как беспощадно будут обращаться со мной, пытаясь глубже меня понять, то предпочитал быть понятым неверно или вообще непонятым. Понимать меня значило быть нахальным и бесцеремонным, это невозможно без коварной враждебности. Когда меня стали понимать корабли? Мне было достаточно самому понимать их. Корабль лениво или достойно посылал свое имя и живо, не оглядываясь, входил в порт. Счастьем для них было, что ни один из кораблей не вызвал у меня подозрений, не то в тот же миг я бы разнес его в щепки взрывом своих чувств.
Я превратился в некое подобие точной системы, реагировавшей на человеческие чувства. Как иностранец, вернувшись домой из Англии, становится более джентльменом, нежели настоящий англичанин, так и я был не просто человеком, а скорее человековедом. И это в восемнадцать лет! Моим оружием стали логика и сила воображения, они намного точнее, чем природа, инстинкт или опыт, превосходили случайные знания и порядок и были совершенны во всех отношениях. Я стал специалистом по человеку, как, например, энтомолог становится специалистом по южноамериканскому жуку Trypoxylus dichotomus… Проделав опыт над цветами, которые не пахнут, я постиг, каким образом человек восхищается ароматом цветка или бывает одержим эмоциями.
Смотреть для меня означало именно это. Когда с сигнальной станции я обнаруживал в море идущий к нам корабль, я видел, как с определенного расстояния он начинает двигаться прямо на меня, как он весь охвачен мыслями о доме, как его раздражает скорость двенадцать с половиной узлов и весь он переполнен мечтами о суше. Но мои глаза это не занимало — они были устремлены за линию горизонта невидимому, к тому, что было недостижимо для взора. Что значит «видеть» невидимое? Вот в чем верх желания нашего ока, отрицание самого зрения, когда, прибегая к его помощи, мы приходим к отрицанию.
Но иногда я начинал подозревать, что все, я думал, что замышлял, может так и остаться внутри меня. Во всяком случае, на сигнальной станции так оно и было. Внешний мир изредка бросал обрывки теней на стены или потолок, словно посылали свои лучики осколки брошенных стекол, и все, и никаких следов. Может быть, мир действительно таков?
Я всегда был вынужден жить, поддерживая самого себя. Ведь я обычно витал в воздухе — преодолевая силу притяжения и границы изначально невозможного.
Вчера в школе учитель, щеголяя своей ученостью, объяснял нам древнегреческие стихи, в частности, такое: «Кто от рождения наделен милостью богов, обязан умереть красиво, дабы не повредить плод сей милости».
Это значит, что я, для кого вся жизнь есть долг, единственное, что не обязан, так это красиво умереть. Ведь я никак не ощущаю, что наделен милостью богов.
хх месяц хх день
Мне тяжело улыбаться, поэтому у меня родилась идея демонстрировать Момоко свое дурное настроение. С одной стороны, я дам ей заметить во мне чудовище, с другой — оставлю возможность истолковать это самым тривиальным образом: юноша одержим желанием и оттого в плохом настроении. У меня должно быть какое-то чувство, а то все это окажется бесцельным и ненужным. Я искал для него основу. И нашел самое правдоподобное. Это была якобы родившаяся во мне любовь.
Мне стало просто смешно. Сейчас я осознал, что означала вполне ясная предпосылка — я никого и ничто не стану любить. Она означала, что я всегда смогу полюбить, как я того захочу, она означала свободу любви. Я считал: ведь может шофер, остановивший в разгар летнего дня свой грузовик в тени дерева и задремавший на несколько минут, проснувшись, сразу тронуться с места, так и я сразу смогу полюбить. Если свобода не есть сущность любви, если она скорее ее враг, то я смог бы разом приобрести в ней и врага, и союзника.
Настроение у меня и вправду начало портиться. Вполне естественно, ведь свободная любовь была единственной для меня формой любви, нуждаясь в ней, я от нее отказывался.
Момоко с тревогой смотрела на меня, словно на курицу, вдруг потерявшую аппетит. Она придерживалась вульгарной идеи о том, что счастье можно, словно большой французский батон, разделить на всех, и не понимала того математического закона, по которому в нашем мире на каждое счастье должно приходиться свое несчастье.
— Что-то случилось? — спросила Момоко. Ее лицо было отмечено чуть трагической красотой, и вопрос, слетевший с прелестных губ, вполне с этим гармонировал.
Я неопределенно улыбнулся и не ответил.
Несмотря на это, все ограничилось только вопросом, и она снова погрузилась в свою обычную болтовню. Достоинство слушателя было в его молчании.
Вдруг она заметила, что у меня забинтован средний палец на правой руке — я поранился сегодня, прыгая через коня на уроке физкультуры. Я увидел, как она мгновенно успокоилась. Момоко решила, что поняла причину моего плохого настроения.