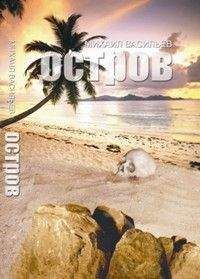— Говорят, вот жизненный опыт, — с неудовольствием заговорил Чукигек. — А мне кажется, что взрослые — это те, кто просто когда-то незаметно сползли с ума.
— Вот готовый хиппи. Еще один.
— Погоди, и ты скоро постареешь, — заметил, теперь устроившийся в качестве зрителя, Мамонт. — И с тобой старость стрясется.
— Все постареем, — высказался Козюльский. — Не только у тебя такая печаль.
— А я уже один раз был старым, — опять заговорил Кент. — Имел такой опыт. Давно. Как это называется?.. Одиночество и заброшенность. Ну и болезни само собой. Денег нет и тут же стал никому не нужен. Телефон молчит неделями, хоть бы кто-нибудь по ошибке позвонил — тогда сказать, что не туда попал и на хер послать. Просыпаешься, а вставать холодно, да и незачем совсем. Опять насильно заснул — опять проснулся. За окном уже темнеет. Это после того как заболел. Думали, рак.
— Я вот до больницы, до алкогольного лечения, толстый был, — заметил Козюльский. — Вроде тебя. Там постепенно весь жир из меня и вытек.
— Не хочет Тамарка проигрывать. Почему, блядь, не разоружаешься перед партией? — Кент по-прежнему с досадой глядел в свои карты. — Главный у нас карт любитель, точнее — профессионал. Давай, проигрывай, наконец, я тебе советским языком говорю.
— Следи за ним, — советовал Козюльский. — Как говорится, виляй, но проверяй.
— Потом до фарцовки догадался, — наконец-то забрав ставки, продолжил Кент, — втянулся, постепенно ожил. Хорошее ремесло фарцовка, спокойное. Совсем легко жил: вставал без будильника, когда хотел. Как птица…
Мамонт смотрел на медленно планирующего внизу, над зеленой чащей, белого попугая, поражающего широким, почти орлиным, размахом крыльев.
— …В благополучно устроенном быту малейшего толчка достаточно, чтобы нанести вред. Все было рассчитано до толщины волоса: на каком расстоянии от койки тумбочке быть, когда форточку закрыть-открыть, в какой карман "Мальборо" положить, в какой "Приму"- для стрелков. Полная гармония. Поэтому и называется такая жизнь "Раз-мерянная", все измерено значит. Вот я женился, и после этого все наперекосяк пошло, вся жизнь осыпалась. Жене сразу денег мало стало. Чем больше таскаешь, тем больше ей не хватает. Женщины все-таки проще нас и этим менее уязвимы… Из-за этого и в плаванье ушел…
— Надо тебе пиявками лечиться, — заметил Козюльский. — Сходи на болото да поймай.
— Ну да, — возразил Кент. — Тут небось и пиявки с ногу толщиной, ядовитые какие-нибудь. Да и исчезла моя аллергия. Стала неуместной… Будто и не было. Выходит, не только хорошее, но и плохое, — Кент замолчал, подозрительно следя за Тамайей, стремительно раздающим карты, глядя то на его руки, то на невозмутимое коричневое лицо с выпуклыми каменными скулами, — выходит, и неприятности, вроде вечные, вместе с досадным изменением быта могут исчезнуть.
— Философ! — проворчал Козюльский.
— А ты думал. Отнюдь не дурак. Отнюдь! Во мне даже маленькая долька еврейской крови есть… Я вас умоляю.
— Чукигек — вот кто у нас философ, — рассеянно заметил Мамонт.
— А я в журнале читал, — тут же вступил Чукигек, — что никто не знает, почему в Европе возникла научно-техническая революция. А я вот догадался. Когда-то древние греки всерьез верили, что герои бессмертны. Подобно богам. И мы тоже почему-то верим. Эти греки сильно любили соревноваться, каждый победителем, героем, хотел стать. Это от них и у нас — мода, спорт, политика. Наука и техника. Уже тыщи лет состязаемся.
В голову пришло, что это собрание игроков в мачжонг похоже на пародию на античный прауниверситет. Когда вокруг какого-нибудь Платона собирались и слушали его желающие… Мир без книг. Устный, еще плоский пока. Как он сегодня убедился.
"Вот тоже прочту цикл лекций, а гонорары буду брать овечьим сыром и виноградным уксусом. Впрочем, кто здесь ученик?.."
— …Они же придумали скульптуры не богов, а людей делать. Вроде нынешних фотографий, — продолжал Чукигек. — Я вот тоже хочу тут памятник поставить кому-нибудь. А может и нам когда-нибудь поставят. Вдруг заслужим.
— Какие греки? Какие герои? — презрительно кривился Кент. — За те же деньги все крутится. Ради них… Отсюда все виднее, конечно. Дико вспоминать: при прежнем режиме кто-то сверху о моих потребностях пытался заботиться.
Мамонт подумал, что на острове почему-то любят вспоминать прошлое.
— …Если бы даже хотели меня полностью обеспечить, разве это возможно, чуваки? Вот представьте, подхожу я, маленький такой, к этому верхнему. Говорю, хочу банан. Ну ладно, на тебе банан. Ананас хочу. Ну, хер с тобой, вот тебе ананас. Еще, говорю, хочу авокадо, манго и маракуйю. Ах, маракуйю тебе!.. — Завладев колодой, Кент торопливо тасовал карты. — Получил бы я такую маракуйю!.. Зато здесь за деньги что хочешь тебе поднесут, обеспечат. Вот появись спрос на птичье молоко — всерьез кинутся каких-нибудь пингвинов доить.
Чукигек, кажется, пытался что-то вставить про пингвинов, но Кент не позволил. Как всякий любящий поговорить он не любил слушать других.
— Я вот на материке странную вещь видел — машинку для счета денег. Неужели у кого-то их так много… Ничего-ничего, Кент выбьется из нужды. Не поздно еще.
— А вот хиппи протестуют, — заметил Мамонт. — Не нравится им мир чистогана. Пассивно разрушают его, говорят.
— Ничего они не разрушат, — возразил Кент. — Что-то не верится в их скромность в личной жизни. Мешает им, что они тоже хотят жить. Причем тоже хотят жить хорошо. Увидишь, еще и "Битлз" ихние станут миллионерами.
— Прилипли уроды эти, — заводясь, заворчал Козюльский. — Хиппи ваши блядские разгулялись, говорю. Здесь, на нашем острове. Слетелись, как мухи, на это…
— На варенье, — в задумчивости будто бы, уточнил Чукигек.
— Движение индивидуалистов общей толпой, — высказался Мамонт. Это он слышал сегодня по радио.
— Тебе виднее, — ехидно заметил Кент. — Ты ведь уже объяснялся с ними. Вплотную.
— Это политическое покушение было, — пробормотал Мамонт.
Все почему-то дружно засмеялись.
— Хиппи считают, что во всем виноваты старики, — высказался Чукигек. — Вроде тебя.
— Мы бежим с Тамаркой, — Кент опять коротко рассмеялся, — смотрим, Ихтиандр, покойный, на кого-то навалился. Думаю, неужели бабу уламывает? Что за обычай у хиппи появился — бабы сразу не дают. Потом глядим, нет, — это же Мамонт наш — уже и не хрипит, посинел весь. Ихтиандр ему шею сдавил, трясет, как грушу, а у того уже глаза вылезли — в небо смотрит.
— Я бы и сам справился, — произнес Мамонт, с трудом улыбаясь. Опять ощутил отвратительное прикосновение чужого потного тела, вкус волосатой мужской кожи — это когда он в отчаянии укусил Ихтиандра.
— Ну, ничего… Получил свое, — пробормотал Мамонт. — Кто-кто! — отмахнулся он от Чукигека. — Да этот Ихтиандр. Тут его все знают.
"Вернее, знали", — подумал он. Странный хиппи… даже среди них бывают странные?.. бродивший по острову в набедренной повязке и не снимая акваланга, с подвешенным спереди бананом. Ихтиандр всегда в одиночку приплывал на остров на маленьком белом катере и, остановившись не доходя до берега, уходил под воду — за эти необычные манеры, видимо, и был прозван Ихтиандром.
— И где теперь этот Ихтиандр? — интересовался Чукигек.
— В воду нырнул, — раздраженно ответил Мамонт. — Навсегда.
— В смысле?..
— Хватит, — остановил его Мамонт. — Любопытный, блин! Вырастешь — поймешь.
— Много будешь знать — состариться не успеешь, — поддержал его Козюльский.
Прошлое не темное, нет. Яркое, отчетливое. Вот они гуляют по берегу: Как их назвать? Мужики — хиппи, а женщины — ?..
"Самки хиппи", — решил он. Окуляр подзорной трубы заполнило женское бедро, золотисто-смуглое и масляно блестящее, будто копченное сало.
"Понравилось им сюда размножаться ездить, жирножопым," — Это Мамонт, презирая самого себя, опять пришел на пляж — залег со своей медной трубой в кофейной роще — "наблюдать". Так он называл это.
Если отвести трубу, на берегу появляются хиппи и среди них много самок, обнаженных и загорелых. Вместо одежды — венки и гирлянды из цветов — на шее и вдоль тела. На этом тропическом берегу самки не голые, а именно обнаженные, лишившиеся всего срамного. Творения из плоти и косметики. Вот оно — достоинство правильного женского тела.
"Тучные стада хиппи".
Нежная дамская плоть среди отвратительных волосатых самцов. Вон один, одетый лишь в замшевые мокасины, сидит возле юной хорошенькой самки. Выше пояса у него — почему-то незагоревшая крахмально-белая спина, будто он одет в белую рубашку. Среди лежащих самок стоит еще один, сутулый, с лишаем между лопаток, равнодушно озирается: выбирает. И у этого, конечно, есть шансы.
"Старый проститут!" — обругал он сам себя — ,кажется, вслух. Мамонт сдвигает-раздвигает трубу: настраивает, лихорадочно, будто опасаясь пропустить что-то важное. Вчера удалось увидеть сцену настоящего свального греха, когда к одной бесстрастно лежащей самке по очереди подходили самцы, укладываясь прямо среди равнодушных зрителей. Это называлось секс.