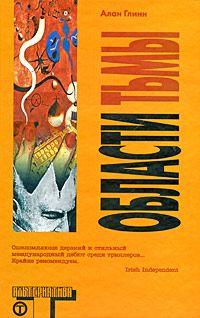Потом мы вместе в кабинке в туалете ночного клуба или бара, я отшатываюсь от неё, хочу уйти — ноги её раскинуты на фоне хрома, белого фарфора и чёрного кафеля… зелёная юбка содрана и висит на толчке, рубашка расстёгнута, бисеринки пота блестят между грудей. Я прислоняюсь к двери, пытаясь натянуть штаны, она остаётся в той же позе, глаза закрыты, а голова ритмично болтается из стороны в сторону. На заднем фоне играет какая-то пульсирующая музыка, регулярно взрыкивает сушилка для. рук, громкие голоса и безумный смех, а из соседней кабинки доносятся щелчки зажигалки, а потом резкие, быстрые вдохи дыма…
В этот момент я закрываю глаза, а когда открываю, секунду спустя, я уже иду через забитый людьми танцпол — протискиваюсь, пихаюсь локтями, рычу. Ещё через пару мгновений я уже на улице, вокруг снова толпы народу и куча машин. Помню, как заползаю в знакомый уют жёлтого такси, тону в дешёвой пластиковой обивке заднего сиденья и глазею на яркие полосы неона, протянувшиеся по городу, тянущие его туда-сюда, как волокна разноцветной жвачки. Ещё помню, как резко даёт о себе знать правая рука, она болит, пульсирует оттого, что я врезал тому парню в «Конго» — причём мне сложно поверить, что это я сделал. В любом случае, потом я оказываюсь в вестибюле ресторана в Верхнем Вест-Сайде — я читал, что называется он «Актиум» — я втираюсь в доверие, влезаю в другой разговор с другими незнакомцами, на этот раз полудюжиной членов местной тусовки в художественной галерее. Изображая коллекционера, я представляюсь как Томас Коул. Как и раньше, я снова оказываюсь в середине предложения:
— …и уже в 1804 году Благородный Варвар стал Демоническим Индейцем, это видно на «Убийстве Джейн Маккри» Вандерлина: тёмная, пульсирующая мускулатура, людоед поднимает томагавк, готовый проломить ей череп… — Похоже, я удивился своим словам не меньше, чем все окружающие, но не мог нажать «паузу», не мог ничего сделать, кроме как терпеть и смотреть. Потом снова щёлк, щёлк, щёлк и внезапно мы сидим вместе за столом и обедаем.
Слева от меня сидит крепкий дядька с сединой в бороде в тщательно измятой парусиновой куртке, может, художественный критик, а справа — женщина с причёской «мечта дикаря» и костями, выступающими при каждом движении. Прямо напротив меня оказался болтающий без умолку тучный латиноамериканец в костюме. Говорил он по-английски, но в-основном, по поводу «североамериканцы — то» и «североамериканцы — это», и очень пренебрежительным тоном. Через пару мгновений я понял, что смотрю я на Родольфо Альвереза, известного мексиканского художника, который недавно переехал в Манхэттен и начал восстанавливать по записям разрушенные фрески Диего Ривьеры, в 1933 году сделанные для вестибюля RCA.
Человек на Перекрёстке Смотрит с Надеждой и Мечтой во Взоре на Выбор Лучшего Будущего.
Темноволосая и очень красивая женщина в чёрном платье, сидящая слева от него, оказалась страстной Донателлой, его женой.
Я читал их биографию в «Vanity Fair».
Какого хуя я оказался в их компании?
— Как иронично, — сказал кому-то седобородый дядька, — выбор лучшего будущего.
— И что здесь ироничного? — услышал я свои слова, а потом раздражённый вздох. — Если сам не выбираешь своё будущее, кто будет заниматься этим вместо тебя?
— Ну, — сказала Донателла Альварез, улыбаясь через стол — и улыбаясь именно мне, — это и есть путь североамериканца, правда, мистер Коул?
— Простите? — сказал я, захваченный врасплох.
— Время, — сказала она спокойно. — Для вас — это прямая линия. Вы смотрите назад на прошлое, и, если хотите, можете им пренебречь. Вы смотрите вперёд в будущее… и, если хотите, можете выбрать себе лучшее будущее. Можете решить стать идеалом…
Она до сих пор улыбается, и я могу сказать только: — И?
— Для нас, в Мексике, — говорит она медленно, будто объясняя ребёнку, — прошлое, настоящее и будущее… они сосуществуют.
Я смотрел на неё, но в следующий миг она уже давно разговаривала с кем-то ещё.
С этого момента происходящее становилось всё более обрывочным, разъединённым — и лихорадочным. Большую часть я вообще не помню — не считая пары сильных чувственных впечатлений, например, странного цвета и текстуры мидий в белом вине… клубов густого сигарного дыма, толстых, блестящих мазков краски. Вроде бы помню вид сотен тюбиков и кистей, разложенных рядами по деревянному полу, и дюжин холстов, скатанных, натянутых и сваленных.
Скоро рисованные фигуры, бледные и бугрящиеся, начали мешаться с настоящими людьми в ужасающем калейдоскопе, и я понял, что мне надо к чему-нибудь прислониться, но вместо этого сосредоточился — сквозь забитое людьми пространство лофта — на глубоких земных колодцах, глазах Донателлы Альварез…
Следующий миг, как вспышка, я иду по пустому коридору отеля… сижу в комнате, определённо в комнате, но понятия не имею, в чьей, и что там случилось, и как я тут вообще оказался. Потом ещё одна вспышка, я уже не в отеле, а иду через Бруклинский мост, быстро, куда-то спешу, как я скоро понимаю, спешу я увидеть несущие тросы, образующие мерцающие геометрические узоры на фоне бледной синевы рассветного неба. Я остановился и обернулся.
Посмотрел назад, на знакомый по открыткам вид Манхэттена, понимая, что последние восемь часов моей жизни мне не принадлежат, но притом сознавая, что теперь я вернулся в сознание, я волнуюсь, замерз и у меня всё болит. Я тут же решил, что, зачем бы я ни шёл в Бруклин, это уже неважно, растаяло, потерялось в глыбе окаменелой энергии, которая больше никогда не оживёт. Так что я пошёл по мосту назад, в центр, и шёл — как оказалось, хромал — всю дорогу до квартиры на Десятой улице.
Я говорю «хромал», потому что умудрился где-то потянуть левую ногу. А когда разделся, чтобы помыться в душе, увидел, что тело моё покрыто синяками. Это объясняло болезненные ощущения — по крайней мере отчасти — но кроме тёмно-синих пятен на груди и рёбрах, было кое-что ещё… ожог на правом предплечье, удивительно похожий на сигаретный. Я потёр пальцем красное пятно, нажал на него, вздоронул, потом медленно погладил вокруг — и при этом почувствовал беспокойство, зарождающийся страх, стискивающий моё солнечное сплетение.
Но я не поддавался, потому что не хотел об этом думать — думать о том, что было или не было в комнате отеля, ничего не хотел вспоминать. У меня через пару часов встреча с Карлом Ван Луном и Хэнком Этвудом, и больше всего — и явно больше опустошающего приступа паники — мне сейчас нужно собраться с мыслями.
И настроиться.
Так что я принял ещё две таблетки, побрился, оделся и начал листать записи, которые сделал вчера.
Мы с Ван Луном договорились, что я приду к нему в офис на Сорок Восьмой улице к десяти утра. Нам надо обсудить ситуацию, согласовать понимание и, может, разработать предварительный план кампании. Потом мы идём на встречу с Хэнком Этвудом.
В такси по дороге на Сорок Восьмую улицу я пытался сосредоточиться на хитростях корпоративного финансирования, но меня вновь привела в ужас мысль о том, что случилось, и степень безрассудства, на которую я оказался способен.
Восемь часов в отключке?
Может, это был не просто сигнал тревоги?
Но потом я вспомнил, как однажды, много лет назад, блевал в ванной — заливая кровью раковину — а потом вернулся в комнату, к горке продуктов в центре стола… и сигаретам, и водке, и к резиновому, тягучему, бессмысленному разговору…
А потом — минут через двадцать — снова блевал. И снова.
Так что… явно нет.
Я остановил такси на Сорок Седьмой улице и прошёл оставшийся квартал до Здания Ван Луна. Когда я вошёл в вестибюль, я как раз сумел управиться с хромотой. Со мной поздоровался личный помощник Ван Луна и провёл к длинному ряду кабинетов на шестьдесят втором этаже. Я заметил, что в целом дизайн офиса — судя по коридорам и громадной приёмной — оказался безупречной, хотя и озадачивающей смесью традиционного и современного, консерватизма и обтекаемых линий — роскошное плавное слияние красного дерева, чёрного дерева, мрамора, стали, хрома и стекла. От этого компания воспринималась как величавое, почтенное заведение и простой, военный механизм — и работали там в основном парни лет на пятнадцать младше меня. При этом у меня появилось острое чувство, что тут нет ничего недостижимого, что компанию вполне можно захватить, что корпоративная структура этого места утончённа и непрочна, как паутинка, и подастся под малейшим давлением.
Но когда я сел в приёмной, рядом с громадным логотипом «Ван Лун и Партнёры», у меня снова поменялось настроение, качнулось к пропасти, и меня захватила тошнота и сомнения.
Как я тут оказался?
С чего я решил работать в частном инвестиционном банке?
Почему я надел пиджак? Кто я такой?
До сих пор не уверен, что знаю ответы на эти вопросы. На самом деле, пару мгновений назад — в ванной мотеля «Нортвью» — глядя в зеркало размером с тетрадку над грязной раковиной, под жужжание и погромыхивания машины для льда, проходящие сквозь стены и мой череп, я пытался увидеть хотя бы след той личности, которая начала формироваться и кристаллизоваться из этой массы навеянных химией импульсов и контр-импульсов, из неодолимой жажды деятельности. Я искал в чертах лица и следы личности, которой в конце концов стал — крупный игрок, разрушитель, духовный потомок Джея Гулда — но видел я лишь своё отражение, только я, никаких намёков на то, чем может обернуться будущее… Лицо, которое я брил тысячи раз.