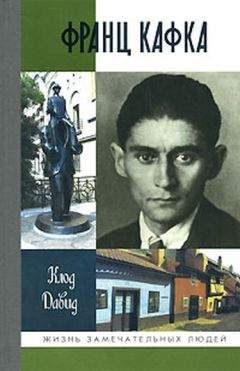Странно, что я помню еще старых узбечек, носивших паранджу. Когда впервые – мне было года три, – в рыночной толпе я наткнулась на этот ходячий египетский саркофаг, который несли бойко скрипучие, узкие черные лакированные сапожки, я страшно перепугалась и заорала.
– Ну что ты! – сказала соседка Маша, тонкая и сутулая, словно согнутая, женщина средних лет со странно бегающими глазами. Она жила в шестиметровой комнате в одной с нами коммунальной квартире, и мама иногда оставляла меня на ее попечение. Маша поступала практично – повсюду таскала меня с собой. Бывало, за день мы с ней и на Алайском закупимся, и к сеструхе в гости съездим (мгновенно накрытый стол, и все как полагается – нарезанное сало, пирог с капустой, водочка: – Маш, налей девке чуток, чтоб отвалилась. – Да не надо, она тихая... Еще мать учует! Оставь...) Она похлопала меня по спине:
– Ты что, это ж просто опа, опушка обыкновенная!
Нет, ни к какой лесной опушке диковатое сооружение отношения не имело!
И этот страшный скрип:... иду-иду, ногой скриплю... дере-вян-ной ногой... отдай мою ногу, Иван-дурак!...
И лишь какое-то время спустя привыкла не пугаться длинного темного наряда с тяжелой, до пят, черной накидкой из конского волоса. Гадала с замиранием сердца: кто, кто скрывается под этой колючей накидкой? Принцесса? Страшная ведьма из восточных сказок?
Годам к шестидесятым железная тяпка советского равноправия успешно выкорчевала мракобесие на огороде дружбы народов. Может, какой-то прок в этом и был: позже кто-то из знакомых эмансипированных узбечек рассказывал мне, что там, внутри, под густым волосяным чачваном, действительно было так темно, что у женщин смолоду портилось зрение...
А с Машей я исходила в детстве множество дворов за самой разной надобностью.
Для меня до сих пор осталось загадкой – чем, собственно, занималась эта очень тихая женщина, – лет через пятнадцать ее задушили ночью в той самой коммунальной квартире, с которой мы к тому времени давно съехали, получив теткино американское наследство, обглоданное до костей хрущевской Инюрколлегией.
Так вот, обычно Маша оставляла меня играть в чужом дворе и, приказав «сидеть, как проклятая, на этом вот самом месте», – исчезала...
Я набиралась всевозможных впечатлений.
Так, однажды весьма удачно ввинтилась в большую толпу, собравшуюся под балконом нового четырехэтажного дома. Там, на самой верхотуре, стояла очень белая голая женщина, одной лишь рукой придерживая сидящую на перилах девочку моего возраста. Толпа внизу все росла, налипая друг к другу, ширилась, взбухая воплями, жужжа разговором и взвизгивая хихикающими возгласами. А женщина сверху кричала что-то – невозможно было понять на каком языке. Ни одного слова я не понимала.
– Во дает! – крикнул одобрительно кто-то из мужчин. – Во кроет! Э-эх, отчаянная!
– Да просто бесстыжая, вот и все!
– Может, пьяная? Или сумасшедшая... Не знаете, кто это?
– Да, говорят, какая-то мать-одиночка... вроде давно стояла на очереди, ее опять обошли... ну, она сама и вломилась в квартиру... дом, видишь, готовый к сдаче... Замок взломала...
– Грозится, что сейчас бросится вниз... Вон, милиция, видишь – не знают, что делать...
– Да звоните же скорее в горсовет, пусть приедут!
– Чего звонить! Граждане, расходитесь, пожалуйста, вам что здесь, – цирк?
– Да это получше цирка будет, – крикнул, одобрительно смеясь, кто-то из мужчин, – гораздо лучше, а, Гриша?!
В этой толпе меня и разыскала Маша. Взяла за руку, ругаясь, что я чуть не пропала, бессовестная, а ей потом перед матерью ответ держать... Маша и сама еще, обшаривая окрестности рассыпающимся взглядом, поглазела на белую женщину, так свободно стоящую абсолютно раздетой и так небрежно придерживающую одной рукой на перилах балкона свою дочь...
Странно: в то время только в бане я видела голое женское тело, совершенно не обращая на него внимания. Еще в папиных альбомах, но все те розовые бокастые тетки были неживыми... А в этом дворе, в этой толпе я бы сколько угодно долго стояла, завороженная видом столь неуместной красоты – очень белая женщина на фоне красной, кирпичной стены дома... Возможно, именно эта картинка и стала первым в моей жизни ненавязчивым профессиональным уроком по извлечению образа из привычной среды?
Маша дернула меня за руку, и мы пошли со двора... А я все думала – наверное, холодно стоять так, босой, на цементном полу балкона?... И только остановившись у тележки с газводой и попросив у старухи два с крюшоном, Маша вдруг задумалась, медленно сглотнула пунцовой игристой воды из стакана и тихо проговорила, совсем уже не управляя своими рвущимися врассыпную глазами:
– А ведь это Катька была... Ей-бо... – Катька!
***
«...О Ташкенте? Погодите... Вы меня врасплох застали... Да и странно, ей-богу, там ведь полжизни моей прошло, как я могу – в двух словах? Давайте я напишу, ладно? Я сочинения в школе писала неплохо, даже учительница зачитывала. И потом, это мысли организует... Ну, и все-таки я какой-никакой издатель, пусть маленького, частного, как говорят здесь – русскоязычного, но уже много лет выживающего издательства... Так что:
«...Лично я родилась в самом центре Ташкента.
Когда расширяли Аллею парадов, местную Красную площадь, мой роддом снесли и поставили на этом месте памятник Ленину. Потом, уже после моего отъезда в Израиль, свежие ветра политических перемен смели и памятник, а на пьедестале установили большой стеклянный шар – ташкентцы, естественно, съязвили: «Ленин снес яичко!»
Жили мы на маленькой улице Северной, недалеко от Театрально-художественного института. Архитектурой эти окрестности не блистали: дома – глиняные мазанки... Но было какое-то обаяние в нашей улочке, укрытой зеленью, тихо звенящей арыками...
На плоских крышах спали в жару целыми семьями... А на исходе лета пацаны поднимались на крыши – собирать виноград с тех плетей, которые туда взобрались... Самым вкусным было получить полуподсохшую кисточку уже заизюмившегося винограда из рук сборщиков.
А вообще фруктовые деревья сажались не только во дворах. На улицах тоже высаживали вишневые, урюковые, миндальные или сливовые деревца. Особенно красиво было весной, когда все цвело белым, розовым, лиловым цветом, и осенью было красиво: повсюду красно-желтые листья шуршат... Дворники сметали их в кучи и разжигали на рассвете костры...
Но главная особенность ташкентских улиц – чего ни в одном городе я больше не встречала – это арыки. Они разделяли проезжую часть и тротуар. На центральных улицах их бетонировали, а на всех других – просто бежала вода в глиняных бережках. И поливали улицу этой водой, и прохлада от нее шла. И конечно, в ней играли дети. В жаркий летний день подоткнешь юбку или закатаешь штаны выше колен – и броди босиком по прохладной воде сколько влезет. А еще в арыке можно было набрать глины и поиграть в туляй – это лепешка из влажной глины, ее бросали о тротуар. Если в твоем туляе возникла дырка, можно отщипнуть кусок от соседского и дырку заделать. У кого в итоге получался самый большой туляй, тот и побеждал.
...Вспоминаю наших соседей – кто на этой маленькой улице только не жил, кого там только не было: по официальной переписи населения в Ташкенте обитали девяносто восемь наций и народностей! Стихийный интернационал, «Ноев ковчег»... Удивить кого-то тем, что ты армянин, айсор, еврей, грек, татарин, уйгур или кореец, было трудно.
Молочница, носившая нам козье молоко, была украинкой. К ней однажды приехала в гости дочь с маленьким ребенком. Еврейка бы тут же заявила, что это лучшее дитя на свете. А украинка выразилась откровенно: «Ой, Лыду, яке ж воно в тэбэ дур-нэ!» Стоявшие рядом узбечки тут же закачали головами и сказали, что ребенок выправится. «А я говорю – дурнэ!» – припечатала бабушка.
Как-то мы общались на всех языках понемножку. До сих пор помню, как с соседкой, татаркой по имени Венера, мы убегали от здоровенного гусака и во все горло кричали по-татарски:
«Ани! Карагын!» («Бабушка! Погляди!») Иногда меня «подкидывали» на вечер соседке, узбечке Каят. Та только посмеивалась: «Менга бара-бир – олтитами бола, еттитами!» («Мне все равно – шесть детей или семь!») Несколько фраз каждый из нас знал на фарси, идишскими ругательствами щеголяли на улице с особым шиком; выражение – «Шоб тоби, бисова дытына!» тоже вошло в мой лексикон с детства. В общем, те еще были полиглоты...
Евреи о политике при детях старались не говорить («Ша, здесь ребёнок!»). А греки-политэмигранты о политике могли говорить везде и всегда. Если два грека вцеплялись друг другу в лацканы пиджаков и громко кричали, это не значило, что один оскорбил другого. Это так они говорили «при политики» (о политике). Им было хуже: дети греков понимали все, о чем говорят родители. А еврейские бабушки и мамы для конспирации переходили на идиш. Из чистой вредности я выучилась кое-что понимать. Во всяком случае, когда однажды бабушка принялась мыть косточки соседке Гале (мне было лет тринадцать): «Са ене Галька! Зи шлофт мит цвей мужчинес!», я с лукавым удовольствием поправила: «Бабуля, мит цвей менчн!» – «А ты откуда знаешь?»...