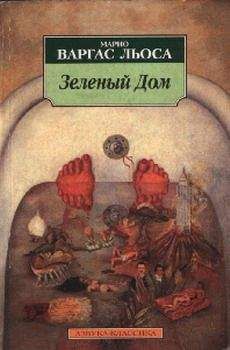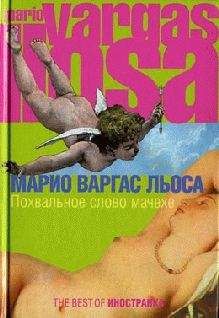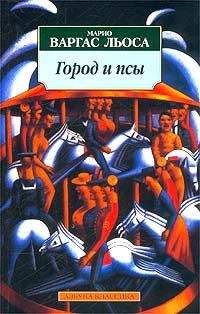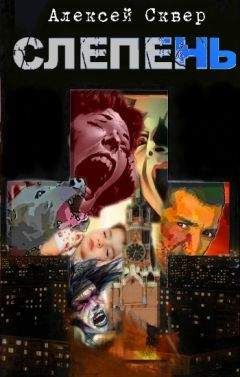— Если бы мне пришлось выбирать, кому из них двоих отомстить, я бы выбрал ее, Акилино, — сказал Фусия. — Потому что наверняка эта сука его сама завлекла, когда увидела, что я болен.
Ты с ней плохо обращался, бил ее, и потом у женщин тоже есть своя гордость, Фусия, — сказал Акилино — Какая же стала бы это терпеть? Из каждой поездки ты привозил женщину и забавлялся с ней в свое удовольствие.
— Думаешь, она злилась на меня из-за чунчей? -сказал Фусия. — Что за глупость, старик. Эта сука распалилась потому, что я уже не мог с ней спать.
— Лучше не говори об этом, Фусия, — сказал Акилино, — а то опять на тебя тоска нападет.
— Но ведь они оттого и спутались, что я не мог спать с Лалитой, — сказал Фусия. — Разве ты не понимаешь, Акилино, какое это несчастье, какая это ужасная вещь.
— Я вас не разбудила? — сонным голосом сказала Лалита.
— Нет, не разбудили, — сказал Ньевес. — Добрый вечер, заходите.
Он запер дверь на засов, подтянул брюки и скрестил руки на голой груди, но тут же опустил их и с минуту постоял, переминаясь с ноги на ногу. Наконец он указал в угол, где стоял кувшин из голубой глины: к нему забралась мохнатка[39], и он ее только что убил. Всего неделю назад он засыпал все ходы — Лалита села на циновку, — но эти твари каждый день проделывают новые.
— Потому что они голодные, — сказала Лалита. — Такая пора. Однажды я просыпаюсь и, можете себе представить, не могу пошевелить ногой. Смотрю — маленькое пятнышко, а потом это место вспухло. Уамбисы заставили меня подержать ногу над жаровней, чтобы испарина выступила. У меня даже след остался.
Она подняла отороченный край итипака, и показались ее ляжки — гладкие, крепкие, цвета мате. Шрам от укуса походил на маленького червячка.
— Чего вы испугались? — сказала Лалита. — Почему вы отворачиваетесь?
— Я не испугался, — сказал Ньевес. — Но только вы голая, а я мужчина.
Лалита засмеялась и опустила итипак. Правой ногой она рассеянно катала по полу тыквенную бутылку.
— Пусть она шлюха, сука, кто хочешь, — сказал Акилино. — Но все равно я люблю Лалиту, она для меня как родная дочь.
— Женщина, которая делает такую подлость, потому что видит, что ее мужчина умирает, хуже шлюхи, хуже суки, — сказал Фусия. — Для нее даже не подберешь подходящего слова.
— Умирает? В Сан-Пабло по большей части умирают от старости, а не от болезней, — сказал Акилино.
Ты говоришь это не для того, чтобы утешить меня, а потому, что тебе не по нутру, что я ругаю эту стерву, — сказал Фусия.
— Он при мне сказал: если еще раз увижу, как ты ходишь в одном итипаке, сделаю из тебя кровяную колбасу, — проговорил Ньевес. — Разве вы уже забыли?
— А то еще говорит — отдам тебя уамбисам, выколю тебе глаза, — сказала Лалита. — И Пантаче все время грозит — убью, не заглядывайся на нее. Когда он угрожает, это еще ничего, отведет душу и успокоится. А вот когда он бьет меня, вам меня жаль?
— Мало сказать жаль, во мне злость закипает. — Ньевес похлопал рукой по засову на двери. — В особенности когда он оскорбляет вас.
Когда они вдвоем, он еще не так измывается над ней — э-э, у тебя уже зубы выпадают, э-э, все лицо в прыщах, э-э, какая ты дряблая стала, скоро будешь, как старая уамбиска, — как только может, унижает ее. Ньевесу ее жаль? А Ньевес — что уж тут говорить.
— Но она верила в тебя, хоть и знала, что ты за человек, — сказал Акилино. — Бывало, я приезжал на остров, и Лалита говорила мне: скоро он возьмет меня отсюда, если в этом году будет много каучука, мы уедем в Эквадор и поженимся. Будьте добреньки, дон Акилино, продавайте товар по хорошей цене. Бедная Лалита.
— Она не удрала раньше, потому что надеялась, что я разбогатею, — сказал Фусия. — Ну и дура, старик. Я не женился на ней, когда она была крепенькая, свежая, без прыщей, и она думала, что я женюсь, когда она уже никому не горячила кровь.
— Адриану Ньевесу разгорячила, — сказал Акилино. — Иначе он не увез бы ее.
— А их тоже хозяин хочет взять с собой в Эквадор? Он и на них женится?
— Его жена только я, — сказала Лалита. — Остальные служанки.
— Говорите что угодно, но я знаю, что вам это больно, — сказал Ньевес. — Вы были бы человеком без души, если бы вам не было больно, что он приводит других женщин в ваш дом.
— Он не приводит их в мой дом, — сказала Лалита. — Они спят в загоне, вместе со скотиной.
— Но он ведь живет с ними, не скрываясь от вас, — сказал Ньевес. — Не делайте вид, что вы меня не понимаете.
Он обернулся и взглянул на нее. Лалита подвинулась к краю циновки и сидела, поджав ноги и опустив глаза. Ньевес не хотел ее обидеть, он запнулся и опять стал смотреть в окно, — его взяла злость, когда она сказала, что уедет с хозяином в Эквадор, — на темно-синее небо, на костры, на светлячков, мерцавших в папоротнике, — он просит прощения, он не хотел ее обидеть, — и Лалита подняла глаза.
— Разве он не отдает их тебе и Пантаче, когда они ему надоедают? — сказала она. — Ты поступаешь так же, как он.
— Я человек одинокий, — пробормотал Ньевес. — Мужчина не может обходиться без женщин. Зачем вы меня сравниваете с Пантачей, хоть мне и приятно, что вы обращаетесь ко мне на «ты».
— Только вначале, — сказал Фусия. — Когда я уезжал, она набрасывалась на них, одну ачуалку исцарапала до крови. Но потом она привыкла и, можно сказать, подружилась с ними. Она их учила говорить по-испански, болтала с ними о том о сем. Дело не в этом, старик.
— И ты еще жалуешься, — сказал Акилино. — Тебе каждый позавидовал бы. Многих ты знаешь мужчин, которые так меняли бы женщин?
— Но ведь это же были чунчи, Акилино, — сказал Фусия, — понимаешь, чунчи: агварунки, ачуалки, шарпы — всякая дрянь.
— И потом, они привязываются ко мне, как прирученные зверьки. Мне их даже жалко — они так боятся уамбисов. Если бы ты был хозяином, ты вел бы себя так же, как он, и тоже измывался бы надо мной.
— Почему вы так думаете обо мне, разве вы меня знаете? — сказал Ньевес. — Я бы так не поступал со своей подругой. Тем более если бы это были вы.
— Здесь женщины быстро дрябнут, — сказал Фусия. — Разве я виноват, что Лалита постарела? И потом, было бы глупо не воспользоваться случаем.
— Потому, значит, ты и уводил таких маленьких, — сказал Акилино. — Тебе хотелось крепеньких, да?
— Не только поэтому, — сказал Фусия. — Как и все мужчины, я люблю целеньких. Только эти собаки-язычники не дают им подрасти, все девочки, какие мне попадались, кроме одной шапры, были уже початые.
— Мне больно только одно — вспоминать, какой я была в Икитосе, — сказала Лалита. — Зубы белые, ровненькие, и ни единого пятнышка на лице.
— Что вы понапрасну растравляете себе сердце, — сказал Ньевес. — Почему хозяин не позволяет уамбисам околачиваться на этом краю? Потому что, когда вы проходите, все на вас пялят глаза.
— И вы с Пантачей тоже, — сказала Лалита. — Но это не значит, что я хорошенькая, просто я здесь единственная белая.
— Я всегда был вежлив с вами, — сказал Ньевес. -
Почему вы меня равняете с Пантачей?
— Ты лучше Пантачи, — сказала Лалита. — Поэтому я и пришла проведать тебя. Ну как, тебя уже не лихорадит?
— Помнишь, как-то раз ты приехал, а я не вышел к причалу встретить тебя? — сказал Фусия. — Помнишь, ты нашел меня в сарае для каучука? Это было в тот раз, старик.
— Помню, — сказал Акилино. — Казалось, ты спишь с открытыми глазами. Я думал, Пантача напоил тебя отваром.
— А помнишь, как я напился, благо ты привез анисовку? — сказал Фусия.
— И это помню, — сказал Акилино. — Ты хотел спалить хижины уамбисов. Ты просто осатанел, нам пришлось тебя связать.
— Все дело было в том, что я уже дней десять не мог спать с этой сукой, — сказал Фусия. — Пытался и не мог — ни с Лалитой, ни с чунчами. От этого можно было с ума сойти, старик. Я даже плакал, когда оставался один, хотел покончить с собой, места себе не находил — десять дней кряду пытался и не мог, Акилино.
— Не плачь, Фусия, — сказал Акилино. — Почему ты не сказал мне тогда, что с тобой творится? Может, тебя вылечили бы. Мы поехали бы в Багуа, и врач сделал бы тебе уколы.
— И ноги у меня одеревенели, старик, — сказал Фусия. — Я щипал их и ничего не чувствовал, спичками обжигал, а они как мертвые, старик.
— Хватит нагонять на себя тоску, Фусия, — сказал Акилино. — Пододвинься-ка к борту, посмотри, сколько летучих рыбок, этих, электрических. Обрати внимание, как они плывут за нами, что за искорки сверкают в воздухе и под водой.
— А потом по всему телу пошли волдыри, старик, — сказал Фусия, — и я уже не мог раздеться перед этой сукой. Приходилось притворяться и днем и ночью, и некому было рассказать про свою беду, Акилино.
Тут послышался робкий стук. Лалита встала, подошла к окну и, прижавшись лицом к металлической сетке, заговорила по-агварунски. Снаружи тихонько зарычали в ответ.