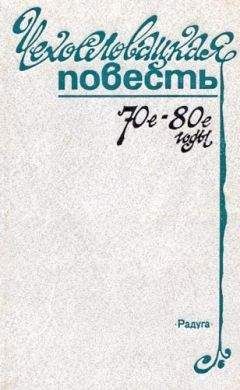Вечером того дня, когда производилось вскрытие, я долго говорил с Иткой. Все рассказал и попросил совета. Волейник не умеет оперировать. Как мне с ним быть? Я говорил себе: Итка человек прямолинейный — сразу подскажет справедливое решение. Но это оказалось непросто. И мы неожиданно коснулись проблем, о которых я и не подозревал.
Когда я в тот вечер вернулся домой, Итка стояла у гладильной доски. Рядом была куча белья. Скорее по привычке, я спросил, нельзя ли найти кого-нибудь, кто бы выгладил это вместо нее.
— Попробуй, — сказала она, и в голосе ее прозвучала необычная усталость. — Если удастся, с удовольствием поручу это кому-нибудь еще.
Мне стало грустно, потому что в Иткином ответе не было и тени обычной для нее красивой и веселой иронии.
— Оставь, — убеждал я ее. — Сделаешь в другой раз. Мы можем ненадолго куда-нибудь отъехать и пройтись пешком…
Она посмотрела на меня долгим взглядом и покачала головой. Окно в кухне было распахнуто. В палисаднике, между корпусами домов, зеленел кустарник. Ветер поигрывал ветками отцветших черешен, последние белые лепестки снежинками порхали в воздухе. И вдруг до меня дошло:
— Ой, Итка, мы в первый раз за все годы не были в нашем черешневом саду!..
— Во второй, — уточнила она. — В первый раз — шесть лет тому назад, когда ты уезжал на конгресс в Сан-Паулу.
Упрек был основательный. Потому что тогда, шесть лет назад, на то была причина, а теперь ее не было. Но Итка сказала это не в укор — так, между прочим.
Меня это совсем обескуражило.
— Почему ты мне не напомнила?
Она пожала плечами. Послюнявила палец и коснулась утюга. Потом разложила на гладильной доске мою пижаму.
— Почему не напомнила, Итка? — повторил я, и голос у меня, наверно, был такой несчастный, что она не смогла отмолчаться.
— Думала, ты на всю эту романтику уже плюнул и мы для этого, по-твоему, стары.
И опять никакого упрека — только голосок, тонкий как волосок. Но как раз это было для меня невыносимее всего. Я взял у нее из руки утюг и выдернул шнур.
— Мне, честное слово, очень жаль, — сказал я. — Ты даже не представляешь себе насколько! Кто это тут старый, скажи пожалуйста! Ты сама знаешь, что это чушь!
Когда-то я ее про себя называл: «девушка с бархатными глазами». Они и теперь такие, но возле них — паутинки морщин. И круги, потому что Итка порядком изматывается. Даже веки отекшие. Я испугался. Мне как-то не приходило в голову, что Итка может быть больна. Она вообще-то делала когда-нибудь кардиограмму?
Итка засмеялась. Воткнула опять вилку в розетку.
— Лиса ты старая. И ничего тебе не жаль. Нисколечко. Впрочем, у тебя есть возможность исправиться.
— Серьезно? Каким образом? — включился я в игру.
— В горах черешни только еще зацветают. До воскресенья обязательно распустятся. И если выехать куда-нибудь за Турнов, можно в конце концов на них наткнуться.
Работы у меня было пропасть. Предстояло закончить, учебник, подготовить доклад для международного конгресса, а в клинике ждал целый ряд тяжелых случаев, которые я не мог доверить другим. И все-таки я постарался не протестовать.
— Великолепная идея, — сказал я. — Во что бы то ни стало так и сделаем. До следующего мая нам это зачтется?
Она удовлетворенно кивнула.
Так мы покончили с тем маленьким недоразумением, и обещание свое я потом выполнил. Однако же беседа наша у гладильной доски этим не завершилась.
Договорившись о прогулке в горы, я спросил ее мнение о Волейнике. Сначала она высказалась сдержанно; сказала, что сама не знает, как бы повела себя в подобных обстоятельствах. Потом, поняв, что я таким ответом не удовлетворяюсь, напомнила мне имя одного хирурга, недавно получившего премию Пуркине за разработку нового операционного метода.
— Ну разумеется, я хорошо его знаю. А что у него общего с Волейником?
— Мы занимались вместе в семинаре. Когда нас в терапии учили делать инъекции, после него у людей оставались огромные синяки. В вену он вообще не мог попасть.
— Если вы занимались вместе в семинаре, я бы его там видел.
— Ты его видел. И один раз даже выставил из перевязочной — такой он был неловкий.
Вспомнить, что когда-то его учил, я, хоть убей, не мог. Но начал постигать, к чему это рассказывает Итка.
— Однажды ваш амбулаторный хирург доверил ему вскрыть нарыв на пальце. Это был ужас. Хирург потребовал, чтобы тот обещал никогда не брать скальпеля в руки.
— Ну и он обещал?
— Нет. Стал ходить на патологию.
— Значит, идея была неплохая.
— А теперь вот заработал себе имя в хирургии, — сказала Итка. — Что, если и Волейник ваш такой же одержимый?
— Одержимости у него хоть отбавляй, но оперировать как надо он уже не будет.
— Видимо, да. Потому что ты не допускаешь его к настоящей работе.
— Не допускаю. Я за своих больных несу ответственность.
— Это, конечно, — сказала она, — но ведь не вечно же ты будешь держать скальпель. Есть операции, которые ты позволяешь делать разве только Кртеку и, как редчайшее исключение, еще кое-кому из доцентов. А вот такая Гладка, скажем…
— Что тебе о ней известно?
— Многое. Ведь и она хотела как-то себя проявить…
Я начинал раздражаться.
— Она просила тебя оказать протекцию?
— Да нет. Она сама прекрасно понимает, что время ее упущено и уникального хирурга из нее не выйдет. Но мысль, что и она могла достичь чего-то, если б не стеснять ее возможностей, всегда будет ее мучить.
Кровь во мне закипела.
— Так думает любая женщина, и почти ни единой не дано чего-нибудь достичь. Хирург — это не терапевт. От него требуется нечто большее, чем повседневная рутина. Он должен уметь полностью забыть себя, свои недуги и то, что несколько ночей не спал, и даже то, что у него жена и дети…
— А в данном случае внуки…
— А в данном случае внуки, — повторил я механически.
Но, взглянув в глаза Итке, увидел прежние искорки иронии, которые меня сразу отрезвили.
— Да нет, я знаю, вам, конечно, тяжелей, — признал я. — Но одним этим всего не объяснишь. Поэтому-то женщина-хирург такое исключение? Что им мешало бы работать так, как мы? Стоит только захотеть! Могли бы отрешиться от всего и посвятить себя любимому делу…
Она выключила из сети утюг и села.
— Думаешь, это удалось бы, скажем, мне?
— Конечно, — убежденно сказал я. — Когда ты проходила у нас практику, руки у тебя были замечательные, честно. Я даже одно время думал, ты станешь работать со мной в хирургии.
— Честно? А ты уже не помнишь, как все было?
Ну разумеется, я помнил. Итке сначала дали место патологоанатома. А через несколько месяцев она перешла в хирургию, но не к нам — в нашей клинике не было вакансии. Затем представилась возможность устроиться в неврологическое отделение у нас. Помню, мы долго обсуждали, стоит ли переходить. Потом она решила, что так будет лучше. Хотели иметь детей, и жизнь была не очень легкой. Мне казалось, она ушла из хирургии, в общем-то, спокойно.
Я молчал.
— Вспомни-ка, — снова повела она атаку, — тебя бы в самом деле так уж и обрадовало, если б я осталась в хирургии?
— Почему нет? — сказал я не совсем уверенно. — С детьми ведь можно было подождать…
— Сколько? Годик, другой или лет пять? Ты думаешь, мне это помогло бы?
— Не знаю. Может, мы вообще не заводили бы детей. Бездетных пар сколько угодно — мы были бы не первые и не последние.
Батюшки, что тут поднялось! Глаза по плошке, рот — как у маски античной трагедии!
Не заводили бы детей? И ты бы с этим примирился? Когда ты в парке никогда не мог пройти спокойно мимо малыша!..
— Что ты мне хочешь доказать, Итка?
— Да ничего. А только… Ты не обо всем еще знаешь, хотя мне в это теперь слабо верится. Например, что на свете ничто так не увлекало меня, как профессия хирурга. Может быть, даже больше, чем твоего Волейника. Но у меня вдобавок были к этому способности. У нас тогда все были «на подхвате» по меньшей мере год, разве что аппендицит когда доверят. А меня Мотичка допускал ко всему. Даже желчный пузырь два раза удаляла. А он мне только ассистировал.
— Мотичка, твой благодетель! — начал я над ней подтрунивать. — Еще вопрос, по какой причине он тебя ко всему допускал. На первом же году — довольно подозрительно!..
Итка вспыхнула:
— Я и тогда уже понимала, что перед тобой не стоило этим хвастаться! А как я была счастлива! Еле удержалась, чтоб тебе не рассказать.
Это признание меня пристыдило. Я взял ее руку:
— Я и теперь еще об этом сожалею…
— Ничего ты не сожалеешь. Уже тогда ты должен был понять, что значила для меня хирургия и чего мне стоило от нее отказаться.
— Я думал, главное для тебя — семья, как для десятков других женщин-врачей. Может, скажешь, ты не хотела детей?
— Детей хотели оба. И одному из нас пришлось для этого кое-чем поступиться.