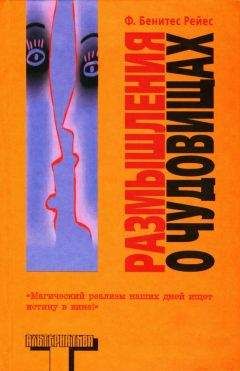— Телепатический пистон?
Хуп рассуждает о нем следующим образом:
— Бывает, ты чувствуешь себя могущественным, когда ты замечаешь, что твой разум мог бы сдержать жизнь вселенной или заставить мир вертеться, словно волчок, по своей прихоти. Когда ты себя так чувствуешь, ты чувствуешь себя потрясающе. Ты видишь издали незнакомую девчонку и говоришь себе: «Сейчас я этой незнакомой девчонке вставлю телепатический пистон», — и вот ты принимаешься пристально смотреть на нее, чтобы отправлять ей посылы могущества, и тогда она что-то замечает, оборачивается, ищет тебя взглядом, — а ты стоишь там, вставляешь ей телепатический пистон. Потому что они это замечают. Некоторым нравится, другие обижаются, когда как. Но тебе это все равно: твоя миссия заключается в том, чтоб вставить телепатический пистон. И вот твой член, сотканный из тумана, отправляется туда по воздуху, как маленький прозрачный призрак, чтобы залепить незнакомке электромагнитный пистон до основания влагалища.
Бласко, поэт трагических лун, певец похмельных рассветов, работает над взрослым племенем. Он завсегдатай дискотек, специализирующихся на увядающих клиентках: разведенных в возрасте, холостячках в возрасте, вампиршах в возрасте… (Все в возрасте.) И вот этих королев он обхаживает, когда не гуляет с нами: он надевает свой черный костюм и черный галстук, и покрывает волосы лаком, и ухаживает за женщинами при помощи симфонических и мрачных стихов или речей, являющих собой смесь лиризма и гнусности, и этот коктейль срабатывает, по его словам, потому что суть вот в чем: начиная с определенного возраста все нуждаются в сентиментальности и в цинизме, в смеси обеих этих вещей, именно так, потому что почти никого не интересует каждая из них, явившаяся в отдельности. (Возраст — это плохая штука, в конечном счете. Для всего. Для разума, для простаты…) (Для всего.) Однажды мы пошли вместе с Бласко в одно из его заведений, в «Эмбрухо», и, по правде говоря, мы чувствовали себя там как одичавшие коты, бродящие вокруг рыбных магазинов, в ожидании того, пока им кинут то, что вот-вот начнет тухнуть. (И мы больше уже не ходили в «Эмбрухо».) (Потому что нам показалось, что мы слишком близки к тому, чтоб согласиться с тем, что мы — даже не коты, а также еще и тухлая рыба.) (И заметно было, кроме того, что свергнутые с трона королевы считают себя не тухлой рыбой, а ангорскими кошками.) (Ну, кроме одной, очень пьяной, той, что там плакала.)
У Мутиса — мало женщин, но именно ему обычно достаются самые лучшие, из всех нас четверых. Почти все его девушки — его ученицы: на каждом курсе он встречает какую-нибудь полупсихопатку, полупоэтическую натуру, полу-gore[29], увлекающуюся черным бельем, какую-нибудь почти девочку, еще не оформившуюся, хотя и с сознанием, зараженным неконкретными страхами, и он ложится с ней в постель или ограничивается тем, что гуляет с ней по барам, показывая ей удовольствия и ужасы этого мира, на манер апокалиптического духовного гида, ненормального и молчаливого.
Кстати, однажды я был у Мутиса дома. Я спросил его, есть ли у него какая-нибудь книга о пресократиках, и он ответил мне, что, разумеется, есть, и чтоб я приходил как-нибудь к нему домой, и я пошел к нему домой.
Дом Мутиса — это необыкновенный дом, он до отказа набит большой темной мебелью, тенебристскими картинами, вещами столетней давности, похожими на готические, без блеска, в пыли. Потом я узнал, что раньше это был дом его родителей, и узнал, что его отец также был профессором латыни и провел всю свою вдовую старость, денно и нощно переводя длинные поэмы Вергилия, потому что не хотел ничего знать ни о реальности, ни о мире, он ни с кем не разговаривал, ничего не слышал, и, если верить тому, что мне рассказал Хуп, закончив переводить полное собрание сочинений Вергилия, он снова принимался переводить его, по-новому, и дошел даже до того, что перевел «Энеиду» на греческий в ожидании, пока смерть не оборвет одним движением эту добровольную муку Сизифа-переводчика, ведь этот человек, по-видимому, презирал свою собственную жизнь. (Кто знает.) В общем, молчаливость Мутиса, возможно, досталась ему по наследству, хотя Мутис еще не дезертировал из авантюрного предприятия жизни и, полагаю, поэтому путается с нами.
Дом Мутиса — это необыкновенный дом, как я вам уже говорил. Шопенгауэр в своих сочинениях по некромантии утверждает, что индукция, подобная индукции тела, не обязательно предполагает присутствие тела. Так вот, едва лишь войдя в дом Мутиса, я заметил что-то вроде неясного гула бесплотных призраков, со всей тяжестью их противоречивых и смешивающихся энергий, но я не хотел обращать внимание на этот феномен, потому что духи могут быть очень докучливыми: если они обнаружат, что ты испытываешь к ним сочувствие, они начинают осаждать тебя, умолять тебя, преследовать, потому что они — попрошайки реальности, с протянутыми руками из тумана, с молящими глазами, проливающими слезы из дыма, в общем, пустые тени, блуждающие по полю сгущенного ничто, и бывают случаи, когда нужно прибегать к помощи профессионального экзорциста, чтобы избавиться от них. (Призраки, парообразное сборище попрошаек…) (Ведь призраки являются нам не для того, чтоб мы умерли от страха, как думают многие, а для того, чтобы общаться, чтобы разделить с кем-нибудь патетический симулякр жизни, с теми же чувствами, с той же надеждой, с какой толстый онанист заходит в эротический чат в Интернете.)
У Мутиса множество фильмов на видео, горы, всех жанров, они свалены в груды повсюду. И, как ни странно, у него много дисков с записями групп хеви-метал (некоторые из них я знал, потому что мне приходилось покупать их детям Йери: «Дёти Дидз», «Нагфар», «Гейтс оф Иштар»… (Самый настоящий хлам, если позволите мне это выражение.) Еще у него есть комиксы (много).
— Держи, — сказал Мутис и протянул мне историю пресократиков, обтянутую красной кожей. Едва лишь схватив эту книгу, я совершил молниеносное путешествие в страну огромного сверхпсихологического ужаса, так сказать: чуть больше чем за секунду я увидел ворох пальцев, листавших страницы, увидел улицу, по которой ехала повозка, запряженная лошадьми, услышал звон бубенчиков; увидел мужчину в шляпе, держащего книгу в руке, — другой он бросал монеты на поцарапанную деревянную стойку. (?) (Да, дела…)
— По пиву?
И я ответил, что да, так что мы сели друг напротив друга, каждый — в большое роскошное кресло с потертой обивкой.
— Эта книга мне очень пригодится, потому что мне нужно готовиться к экзамену. Она, кажется, очень ценная, нет?
И Мутис сделал жест, который я истолковал как указание на то, что она не имеет никакой ценности, по крайней мере для него.
Я никогда не оставался наедине с Мутисом, и, признаюсь, этот опыт был не из легких, потому что он, кажется, не был намерен разговаривать о чем бы то ни было, хотя темы для разговора, выуживаемые мной, были многочисленны.
— Почему ты так мало говоришь, Мутис? — осмелился я спросить и замер в ожидании долгого и трагического ответа, психоаналитической исповеди о глубинных причинах его протяженного молчания, но он ограничился тем, что пожал плечами и улыбнулся мне с той мягкостью, что свойственна людям, принявшим свое наказание в этом мире, а его наказание состояло в нежелании говорить, как будто он был собиратель тайн, в нежелании говорить в этом мире софистов и трепачей. И тогда я понял степень муки, причиняемой Мутису необходимостью читать лекции: быть вынужденным предавать свое молчание, чтобы зарабатывать себе на жизнь, ведь общеизвестно и проверено, что почти никому не удается заработать себе немного денег, не подвергаясь унижениям. (Даже короли должны надевать шляпу марьячи, когда едут в Мексику с официальным визитом.)
— Я верну тебе книгу.
Но Мутис махнул рукой в знак презрения, давая мне понять, что я могу оставить ее себе или скормить крысам, как мне больше захочется.
В подъезде я столкнулся с Рут, на данный момент подружкой Мутиса.
— Он наверху?
(Калейдоскопичная Рут: иногда она казалась мне очень красивой, иногда выглядела, на мой взгляд, чересчур уныло, чтобы быть красивой. В тот день она была красивой, у нее блестели глаза, волосы были мокрые, и вся Рут пахла мылом, в воздухе она оставляла свежую цветочную струю.)
На улице, в ожидании автобуса, я перебирал догадки насчет того, какого рода отношения могли связывать молчаливого преподавателя латыни и эту стрельчатую нимфу, сбежавшую из озера смерти, так сказать: они в тишине смотрят фильмы? Они гладят друг друга в тишине? Читают комиксы о звездных гладиаторах и о противостоянии галактик? Как ни печально в этом признаваться, ни одна из догадок не показалась мне убедительной, быть может, потому, что ни одна догадка не может таковой быть, ведь реальность обычно неуязвима для каких-либо догадок о ней: головоломки требуют не мнений, а решений. Как сказал мой учитель Шопенгауэр по поводу своего учителя Канта, «действительно реальное, или вещь в себе, единственное, имеющее истинное существование, независимое от проявления и его форм, — это воля, существующая в нас». И кажется очевидным, что Рут и Мутис изъявили волю воздвигнуть для себя свой личный мираж, маленький мираж, способный заменить пугающий мираж мира. А это всегда хорошо, я так считаю.