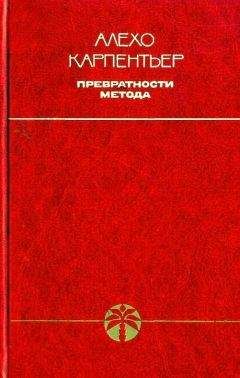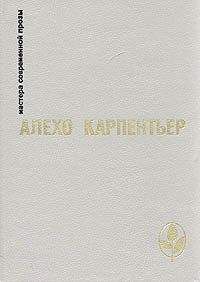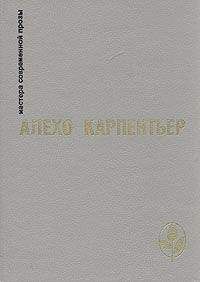X
…хотя многие вещи и могли бы нам показаться в высшей мере необычайными и смешными, они тем не менее уже введены и приняты другими великими народами.
Декарт
Проходили недели, а Глава Нации не покидал своей резиденции в Марбелье, решая государственные дела в помпеанского вида беседке, окруженной апельсиновыми деревьями большого сада. По утрам он отправлялся на прогулку вдоль берега на Олоферне, холеном гнедом коне, который кусал и лягал всех, но был заискивающе ласков с хозяином, потому что хозяин ежедневно и собственноручно поил его английским пивом — марки «Гиннесс», кажется, — из бочки, появление которой всегда вызывало радостное ржание. У Президента имелись все основания быть довольным жизнью, ибо никогда его государство не знало такого благоденствия и процветания, как в эту пору. Европейская война, которая, по правде сказать — хотя об этом лучше и не говорить, — оказалась благословением божьим, взвинтила цены на бананы, сахар, кофе, гуттаперчу, благодаря чему невиданно разбухли банковские счета, десятикратно увеличились состояния, появилась такая роскошь и такая изысканность вкусов, о чем до недавнего времени можно было только мечтать, читая романы из великосветской жизни или любуясь такими почти сказочными гуриями, как Габриэль Робин, Пина Меничелли, Франческа Бертини или Лидия Борелли, без которых не обходился ни один фильм. Окруженная дремучими лесами столица сама превратилась в массив лесов — строительных — и стропил, нацеленных в небо; в город с тарахтящими лебедками и землечерпалками, с непрестанным визгом блоков, громыханием молотов, бьющих по железу и стали, звоном клепки и стуком колотушек, шуршанием сухого цемента. И все это сопровождалось криками рабочих где-то наверху и криками рабочих где-то внизу, свистками, сиренами, скрипом повозок с песком и громким урчанием моторов. Магазины вырастали за одну ночь, вдруг являя на рассвете блестящие витрины, где восковые манекены — еще одно нововведение — праздновали первое причастие, демонстрировали свадебные наряды, шикарные туалеты и даже военные мундиры из английского габардина — модели на заказ и готовые — для высших офицерских чинов. Машины, изготовлявшие медовые лепешки у входа на старый королевский рынок, поражали прохожих мерным движением металлических рук, которые месили, раскатывали, резали белое тесто, окропляемое чем-то красным и пахшее ванилем и алтеей. Неистово множились адвокатские конторы, банки, страховые агентства, торговые фирмы, акционерные общества. Теодолит и веревка превращали заливные луга, пустоши и козьи выгоны в земельные участки, строго разделенные, отмеренные, квадратные, на тех местах, что испокон веков звались «Лужайка прокаженного», «Дикое место» или «Хлев тетки Петры», а теперь стали называться «Багатель», «Вест-Сайд» или «Арменоввиль» и делиться на парцеллы, которые существовали только на земельных планах, почти никогда не застраивались и росли в цене при продажах и перепродажах по нескольку раз в день в конторах с целыми батареями «ундервудов», с позолоченными вентиляторами, рельефными картами и великолепными макетами, с коньяком и водкой в сейфах; в конторах, где торговались и спорили под звон бокалов, в дыму гаванских сигар, принимали приглашения женщин, которые-это тоже было великое новшество — по телефону предлагали свои услуги на языке с иностранным акцентом, сулившим утонченные наслаждения, которые шокировали наших — и тем хуже для них — слишком конфузливых проституток, дававших «представление» в классическом стиле, без тени фантазии, без оригинальных находок и удивительных выдумок, чем уже славились другие страны. Пианолы наводнили столицу, накручивая и раскручивая ролики с «Madelon»[201], «Rose of Picardy» «It’s long way to Tipperary»[202] от зари до зари. В кабачках, где играли в бридж и домино, в барах, где ром «Санта-Инес» уступил место виски «White Horse», говорили только о доходах, которые благодаря войне заставили забыть самое войну, хотя весь народ: белые, чоло, самбо, индейцы, «приэто», «тостадо», и прочие — все стали галломанами, трехцветниками, реваншистами, жанна-д'аркеанцами, кокардистами и барресистами, утверждая, что скоро мы оправимся от Седанской катастрофы и снова вернутся аисты из поэм стихотворца Анси на колокольни Эльзаса и Лотарингии. В ту же пору вырос и первый небоскреб — пять этажей с аттиком — и незамедлительно началось строительство восьмиэтажного здания под именем «Дом-Титан». А старый город со своими двухэтажными домиками обернулся городом-Невидимкой. Да, Невидимкой, потому что столица, превратившись из горизонтальной в вертикальную, скрыла его от глаз людских, от любопытных взоров. Каждый архитектор, которому поручали возводить новые здания выше прежних, заботился о художественном облике лишь своего фасада, словно бы этим фасадом можно было любоваться со стометрового расстояния, тогда как улочки, где не могли разминуться две повозки или два экипажа, а вьючные животные шли только караваном, были шириной не более шести-семи вар[203]. И вот, задрав голову у какой-нибудь бесконечно высокой колонны, прохожий тщетно старался разглядеть чудеса ее орнамента, оценить которые могли только ястребы да стервятники. Люди «знали», что где-то там, наверху, красуются гирлянды, рога изобилия, жезлы Меркурия или, того лучше, где-то над пятым этажом высится целый греческий храм с конями Фидия[204] и прочим, но про то всего лишь «знали», ибо эти королевские роскошества, эти купола, эти украшения царили — город над городом — в сферах, недоступных взору. А еще выше — одинокие, незнакомые, словно изгнанники — торчали изваяния Меркурия (на Торговой Палате) и Минервы, в чье копье ударяли все летние молнии; торчали статуи возниц, крылатых ангелов и христианских святых, которые господствовали, далекие друг другу и чуждые людям, над хаотическим нагромождением черепичных кровель, шиферных крыш, резервуаров для воды, печными трубами, громоотводами и вышками для подъемных устройств и лифтов. Люди, сами того не ведая, жили в новоявленных Ниневиях[205], в головокружительных Вестминстерах, в воздушных Трианонах с фигурными украшениями и бронзовыми скульптурами, которые ветшали, так и не успев войти в общение с народом, что там, — внизу, сновал меж портиков, аркад и колоннад, которые несли на себе всю тяжесть недоступных взору композиций. А поскольку все жаждали новизны, те, кто два века прожил в домах колониальной постройки, бросали свое жилье, чтобы поскорее обосноваться в новых зданиях стиля модерн, романского, или а-ля замок Шамбор шестнадцатого века, или ультрасовременный Стэнфорд Уайт[206]. Поэтому просторные дворцы старого города со своими порталами в стиле платереско[207] и высеченными из камня гербами заполнились оборванным, вшивым, обездоленным людом — тут были и мнимый слепой с наемным поводырем, и непробудный пьяница, и хромой аккордеонист с деревянной ногой, и бедняга паралитик, просивший подаяние Христа ради. Прекрасные внутренние галереи, закопченные дымом жаровен и перекрытые развешанным бельем, заполнились нечесаными женщинами, голыми детьми, проститутками и бродягами, а патио служили подмостками для спектаклей и ареной для бокса, петушиных боев и выступлений фокусника вкупе с вором-карманником. Сотни автомобилей «форд» — тех самых, что демонстрировались в фильмах Мак Сеннета, — колесили по плохо замощенным улицам, пробираясь среди рытвин, наезжая на тротуары, сваливая лотки с фруктами, разбивая витрины, стремясь развить скорость, невиданную в этих широтах. Всюду спешка, суета, гонка, нетерпение. За какие-то несколько месяцев войны от масляной лампы шагнули к электрической лампочке, от бадьи для нечистот к унитазу, от ананасного сока к кока-коле, от лото к рулетке, от Рокамболя к кинозвезде Пирл Уайт[208], от курьера на осле к почтальону на велосипеде, от коляски, запряженной мулами — с кисточками и колокольчиками, — к роскошному «рено», которому надо было проделать ряд сложных маневров — вперед, назад, вперед, назад, — чтобы развернуться в тесноте этого города и катить дальше по улочке, отныне именовавшейся Бульваром, вызывая панику среди коз, коими еще изобиловали некоторые кварталы, где брусчатые мостовые зеленели аппетитной травкой.
Монахини-урсулинки, освятили местный Лурдский грот, прибегнув к эффектам электрического света, открылся первый дансинг с джаз-бандом, прибывшим из Нового Орлеана; из. Тихуаны привезли лошадей и жокеев — для празднично украшенного ипподрома, построенного, на месте болота.
И вот таким образом допотопный городишко, названный «правоверным и достославным» в Акте Основания (1553), проснулся однажды утром в осознанной уверенности своего превращения в полноправную столицу двадцатого века. Бежали последние змеи — гремучие, мапанары, гадюки и прочие… — из районов городской застройки, умолкли щеглы, и заголосили во всю мочь фонографы. Появились клубы игроков в бридж, залы для демонстрации мод, турецкие бани, биржа и бордель высшего класса, куда не впускали тех, кто выглядел смуглее министра общественных работ, избранного эталоном, видимо, потому, что если он и не был паршивой овцой в кабинете министров, то, несомненно, был там овцой самой темной. Полицейские сменили залатанные башмаки на уставные ботинки и мановением белоперчаточной руки останавливали или пропускали транспорт, шумовая гамма которого обогатилась таким разнообразием клаксонов, что на их резиновых грушах можно было сыграть вальс из «Веселой вдовы» или первые такты Национального гимна…