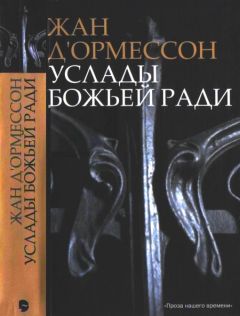Вот обо что ударялись океанические волны книг. Даже тогда, когда они не обрушивались на нас, — а разве на нас обрушивались не лучшие из них? — они содержали в себе иные взгляды на мир, отличные от наших, и приносили нам иные отклики. Все, что я смог сказать хорошего или плохого, восхваляя или описывая сдержанно, — пытаясь, несмотря на многочисленные препятствия и огрехи в памяти, прояснить то, что мне удавалось выхватить из той сокровищницы истины, которой, скорее всего, и нет вообще на свете, но которая сияет для нас тысячью ослепительных огней, — о старинной семье, моей семье, любимой и замечательной, возможно, сводится к словам: мир был нашим взглядом. Сегодня, я думаю, что он является взглядом каждого человека. Однако, благодаря не знаю уж каким окулярам — экономическим, социальным, историческим, психологическим, а в конечном счете главным образом мифическим, — наш взгляд, невзирая на все туманы современной жизни, оставался все же еще чересчур пронизывающим. Всех, кто попадал в наше поле зрения, он обращал в прах. А книги разбивали наши магические очки и чудесным образом возрождали голоса и взгляды других людей. Людские массы давно уже принадлежали нашей истории. Они наполняли ее, увеличивали численность семьи; подобно женщинам и младшим братьям внутри самой семьи, они подчинялись нашим приказам. А теперь и мы в свою очередь стали частью истории рабов, бедняков и бунтовщиков, боровшихся против нас, частью истории больших чисел. Со страниц поглощаемых нами книг к нам являлись талант, страсть, любовь к людям с их слабостями и чаяниями, иные победы, непохожие на наши победы. Там был маркиз де ла Моль, но был и Жюльен Сорель. Был граф Моска, но был и Фабрицио. Был Альмавива, но был и Фигаро. Был князь Андрей, но была и русская земля. Был король, но был и народ. Мы с удивлением узнавали, что те, другие, смотрели на нас, и не только затем, чтобы восхищаться нами, что они судили нас, как мы судили их. Книги учили, что нас тоже ожидает суд истории, в котором мы все еще, несмотря на 1893 год, несмотря на дело Дрейфуса, несмотря на Октябрь, видели себя в роли главных судей. В те летние месяцы после Первой мировой войны, под крышей замка, в головах юных учеников, читавших по ночам при свете ламп, светивших не намного лучше свечей из старых сказок, делала свое дело ужасная алхимия. Только в отличие от старых сказок цель тут была не в том, чтобы карабкаться поодиночке выше других, а в том, чтобы идти навстречу другим, к дружбе, навстречу жизни и любви. Другими словами, мы тоже выходили из гетто. Из гетто роскоши, разумеется, из которого, однако, тоже было нелегко вырваться. А по другую сторону решетки, по мере того как книги рассказывали нам о мире и учили любить его, мир подавал нам знак.
Много лет спустя я встретился с нашим наставником в обстановке куда более худшей, чем в Плесси-ле-Водрёе: в гитлеровском концлагере Освенцим, где в апреле 1944 года он умер от тифа и от истощения. За три дня до кончины, в деревянном бараке, куда не заглядывало весеннее солнце, мы с ним вспоминали о его появлении у нас в один прекрасный, залитый светом летний день, о его коричневом костюме с ужасно некрасивым галстуком, невнятно поблескивавшим при свете свечей, над которым мы, мальчишки, за ужином ужасно смеялись. Я спросил, заметил ли он это. Он сказал мне, что да, заметил, и что в первый же вечер после брошенной дедушкой фразы: «Спокойной ночи, дорогой Конт!» — он вошел в свою спальню с твердым намерением отомстить нам и перевернуть мир этих маленьких дурачков, насмехавшихся над ним лишь потому, что жили они в своем мире, имеющем вековые традиции хорошего вкуса и незыблемых привычек. Он сказал, что мечтал уехать прочь с моей сестрой Анной, голубоглазой брюнеткой, как наша мама, мечтал ввергнуть нас в пороки разврата и вообще покончить с нашей отвратительной элегантностью и такой вежливой наглостью. Но потом и его покорил дух нашей семьи, где загадочным образом перемешивались слепота и обаяние. И вместо того, чтобы пронестись сквозь этот дом, словно пушечное ядро, подобно героям романа «Ученик» Бурже и «Теоремы» Пазолини, он ограничился тем, что стал выполнять наилучшим образом свою задачу человека, пробуждающего сознание. «Теперь ты знаешь, — говорил он слабеющим голосом, слегка улыбаясь, — как я отомстил. Я заставил маленьких дурачков прочесть хорошие книги, развил в этих богатых и элегантных кретинах любопытство, жалость и жажду жизни, что, собственно, и составляет в совокупности любовь к людям». Однако и я тоже в свою очередь, с присущей нам смесью надменности и верности, отомстил ему, желавшему нас переделать. В том холодном польском захолустье, куда нас забросила судьба, он, вошедший в нашу семью, чтобы, подобно многим другим, остаться в ней навсегда, умирал у меня на руках.
А я в соответствии с нашими старыми замшелыми, лицемерными, почти оскорбительными традициями, которые ему и без похищения моей сестры удалось основательно поколебать, держал в своей руке его охладевавшую руку.
I. От тевтонских рыцарей до сестры вице-консула
Мир пришел в движение. Мы — тоже. Мы уже вовсю пользовались «Восточным экспрессом», большими черно-белыми яхтами, всеми средствами связи, включая трансатлантический телеграф, проводили уик-энды в Лондоне или Зальцбурге, разъезжали в неимоверно длинных автомобилях, занявших лет на тридцать большое место в нашей жизни и воплощавших все, что мы, наравне с талантом и умом, так долго ненавидели, воплощавших скорость, перемены, механические штучки. Мы покидали наши липы ради Уолл-стрит, ради круизов по Средиземному морю или сафари в Кении, ради лондонских портных, а позже ради эротических храмов в Индии и мексиканских пирамид, ради песчаных пляжей на берегу моря и заснеженных полей под ослепительным солнцем. Кстати, с солнцем мы тоже помирились. В наших семейных традициях оно не играло никакой роли. Никогда моя бабушка, или тетя Ивонна, или дядя Анатоль не стали бы загорать на ярком солнце, как моя сестра Анна или кузен Клод. Мы долго жили, защищаясь от солнца широкополыми шляпами, зонтиками, закрытыми жалюзи, невероятной толщины стенами. Возможно, оно наряду с изображениями орла, земного шара, белой лилии являлось символом королевской власти, но, как и все остальные символы, оно нам представлялось каким-то абстрактным. Когда оно поднималось на небосклоне, мы старались избегать его лучей. Мы всегда предпочитали свежесть тенистых садов, бледный цвет кожи и тень от высоких деревьев, которые гордыня, тяга к вечности и наше представление о величии заставляли нас высаживать вокруг дома. Даже Реми-Мишо в какой-то степени опасались солнца. Они еще больше нас предпочитали тень плодоносящих деревьев ярким лучам светила. И вот солнце дождалось наконец реванша и стало жечь нам кожу. Глаза у нас были голубыми или зелеными, карими или серыми, волосы — пепельными, белокурыми или темно-русыми. Но вот кожа у всех и всегда была очень белой. И эта кожа стала покрываться загаром на пляжах от Канн до Сен-Мориса, от Капри до Биаррица. «Негры какие-то!» — говорил дедушка, когда мы возвращались в сентябре, сверкая белыми зубами на фоне загорелого лица. В его устах это не выглядело похвалой.
Во все времена и при любой погоде одежда играла в нашей жизни большую роль. У Реми-Мишо была страсть заказывать обувь у лучших сапожников, шить у лучших портных костюмы, рубашки. Их одежда нередко была чересчур красивой и чересчур элегантной. Наша же, напротив, отражала не столько желание понравиться, сколько желание соответствовать определенным нормам морали. Как это ни странно, но у нас одежда соотносилась скорее с этикой, чем с эстетикой или тщеславием. Мы редко носили новую одежду, но своим качеством, своей изысканностью и даже самой своей поношенностью она призвана была выразить наше отношение к себе, к своему рангу, к нашим обязанностям в мире, рискующем утонуть в море вульгарности. А тут мы стали понемногу отказываться от этих принципов. Перестали носить сюртуки и фраки, цилиндры и шляпы-котелки. И дошли до того, что начали разоблачаться только лишь потому, что нам было жарко. А потом и вообще разделись догола, полюбив роскошные бассейны и палубы кораблей. Поменяв одежду, имело смысл сменить и климат: покидая родные края в Верхней Сарте, мы направились к теплым морям. Может оттого, что оказались зажатыми между историей и обществом, мы потянулись к природе. К другой природе. Теперь уже не к той, где мы оберегали наши традиции и наш хороший тон, наши экипажи и наших собак, густую тень наших лесов. А к той природе, которая принадлежала всем и где мы стремились не найти себя, а уйти от самих себя. И одновременно мы вдруг стали интересоваться Африкой, тамошними дикарями, их скульптурой и их музыкой. Прошла через это и тетушка Габриэль. Несмотря на призывы к порядку, исходившие от Морраса и даже от Ренана, который из-за своей любви к Акрополю незаметно превратился из бунтаря в поборника традиций, нам стало мало Парфенона и Венеры Милосской. Мы начали поклоняться неведомым, испепеляемым солнцем божествам, обитающим в храмах Ангкора и в египетской Долине царей. После стольких веков верности нашим богам мы от них отвернулись. Единственным, от чего мы не сумели отречься, были упрямая привязанность к исчезнувшим цивилизациям, к старинным кварталам современных городов, к воспоминаниям завоевателей, к отблескам канувшей в прошлое истории. Вчерашний день — да, конечно, в силу давней привычки. Но уже иных мест. Теперь для поиска приключений перед нами открылся весь мир.