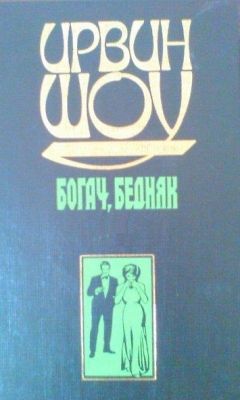У Рудольфа было множество маленьких талантов, но у него не было твердого, определенного направления. Да, он неплохо играл на трубе, но он никогда не льстил себе, никогда не считал себя вторым Бенни Гудманом или Луисом Армстронгом, он не такой дурак. Из четырех друзей, которые играли вместе с ним в джаз-банде, два были куда более талантливыми музыкантами, а два такими же, как и он, не лучше и не хуже. Рудольф слышал, как он играет, и, давая своему искусству должную, трезвую и холодную оценку, все больше убеждался, что его исполнение ничего особенного из себя не представляет. И ему не добиться прогресса, сколько ни старайся. Как спортсмен он был лучшим в школе в беге с низкими барьерами на двести метров, но он понимал, что в большом городе, в другой школе, он навряд ли попал бы в сборную и ему никогда не сравниться с О'Брайаном, защитником футбольной команды. Он постоянно рассчитывал на снисходительное отношение учителей, которые выставляли ему положительные оценки, чтобы за плохую успеваемость его не отчислили из команды. Но на футбольном поле О'Брайан творил чудеса, он был одним из самых сильных игроков. Такого, как он, не было во всем штате. Как ловко он финтил, как за доли секунды находил малейшие просветы в защите противника, как здорово оценивал игру, как продумывал досконально каждый свой шаг, каждое перемещение по площадке. У него было тонкое чутье великого спортсмена, и с ним не сравнится никакой холодный интеллект. Стэна О'Брайана засыпали предложениями из многих колледжей, даже из Калифорнии, и если бы только не тяжелая травма, он наверняка вошел бы в сборную Америки и обеспечил бы себя на всю жизнь. Рудольф в школе справлялся с тестами по английской литературе куда лучше, чем Сэнди Хоупвуд, редактор школьной газеты, который постоянно прогуливал уроки по всем точным предметам, но стоило прочитать одну написанную им статью, как становилось сразу ясно: Сэнди обязательно станет писателем, несмотря ни на какие преграды.
У Рудольфа был природный дар — умение нравиться. Он знал, что только поэтому его избирали три раза подряд президентом класса. Но ведь это не настоящий природный дар, — он-то хорошо это понимал. Чтобы нравится, ему приходилось действовать по плану. Всячески стараться быть приятным окружающим, всегда выражать к ним притворный интерес, с веселым видом брать на себя скучные, неблагодарные обязанности, например распорядителя танцев на школьных балах или главы отдела реклам в журнале, и добиваться успеха на этих скромных постах, чтобы окружающие тебя зауважали и оценили по достоинству. Нет, умение нравиться никак не назовешь природным даром, размышлял Рудольф, потому что у него не было близких друзей и, по сути дела, он не очень-то любил людей. Даже его обычай целовать мать по утрам и вечерам, совместные с ней прогулки по воскресеньям были частью разработанного им плана. И только ради одного — благодарности от нее, чтобы не поколебать тех представлений, которые у нее сложились о нем, — любящего, вдумчивого, ласкового сына. Он все это прекрасно знал. Эти воскресные прогулки наводили на него скуку, и он с трудом выносил ее объятия, когда утром и вечером целовал ее, но, конечно, он никогда не подавал и вида.
Рудольф чувствовал, что состоит как бы из двух слоев: того, который известен только ему одному, и того, который он демонстрировал окружающим, всему миру. Ему очень хотелось быть таким на самом деле, без всякой показухи, но сомневался, что когда-нибудь ему удастся таким стать. Нет, ему это не под силу. Хотя и мать, и сестра, и даже учителя в один голос утверждали, что он — красивый юноша, он не был до конца уверен в привлекательности своей внешности. Ему казалось, что он слишком смуглый, у него слишком длинный нос, жесткие ровные скулы, его белесые глаза слишком легковесны и слишком маленькие и не соответствуют оливковому оттенку его кожи, его волосы слишком безрадостно черны, как у мальчишки из низов. Рудольф старательно разглядывал в газетах и журналах фотографии учеников таких привилегированных школ, как Экзетер и Сент-Пол, как они выглядят, во что одеты, что носят студенты в таких знаменитых ученых центрах, как Гарвардский и Принстонский университеты, и во всем старался подражать их стилю в собственной одежде, насколько ему позволял это его бюджет.
Рудольф носил потертые белые ботинки из оленьей кожи с резиновыми подметками, и теперь у него появился красивый блейзер, но все равно он никак не мог избавиться от портящего настроение ощущения, что если его пригласят на светскую вечеринку, то гости сразу же его вычислят, тут же поймут, кто он, в сущности, такой, — парень из захолустного городка, пыжащийся показать себя таким, каким он никогда не был.
Рудольф робел с девушками и никогда не влюблялся, если только не называть высоким словом «любовь» те глупые чувства, которые он испытывал к мисс Лено. Он старался сделать вид, что его не интересуют девочки, потому что он занят куда более важными делами, чем весь этот детский вздор с назначением свиданий, флиртом, целованиями и обниманиями. Но на самом деле он избегал девушек только потому, что боялся их: вдруг кто-нибудь раскусит, поймет, что за его высокомерным манерничаньем скрывается неопытный паяц?!
Рудольф в какой-то мере завидовал брату. У того был особый природный дар — звериная жестокость. Его боялись, даже ненавидели, во всяком случае никто его не любил, но он никогда не переживал из-за того, какой галстук ему к лицу или что сказать на уроке английского языка. Он весь такой цельный, как бы слеплен из одного куска, и если собирался что-то сделать, то не тратил зря время на мучительные колебания, чтобы выбрать верную позицию, перед тем как приступить к выполнению задуманного.
Что касается сестры, то она — настоящая красотка. Этого у нее не отнимешь. Она гораздо красивее некоторых «кинозвезд» на экране, и одного такого дара с лихвой хватило бы любому человеку.
— Да, папа, гусь просто потрясающий! — сказал Рудольф, зная, что отец ждет комплимента за свое кулинарное искусство. — Это на самом деле — нечто! — Он уже ел через силу, но все равно протянул свою тарелку за второй порцией. Увидев, каких размеров кусок щедро положил в тарелку отец, он невольно скривился.
IV
Гретхен ела молча. Когда же им сказать об этом, лихорадочно думала она, когда наступит подходящий момент? В пятницу она получила уведомление о своем увольнении. Предстояло отработать две недели — и все. Ее вызвал в свой кабинет мистер Хатченс и после небольшой рассеянной вступительной речи, в которой безудержно хвалил ее, говорил, как добросовестно, честно она работает и он очень рад, что у него в отделе есть такая надежная сотрудница, и все такое прочее, а потом неожиданно огорошил. По его словам, утром он получил распоряжение от начальства: уволить в течение двух недель ее и еще одну сотрудницу. Он, конечно, сразу же побежал к менеджеру, хотел отстоять ее, рассказывал мистер Хатченс, и в сухом тоне его голоса проскальзывали нотки искреннего сожаления, но его попытка оказалась напрасной. Война в Европе кончилась, начались резкие сокращения правительственных военных контрактов. Такой спад деловой активности они, конечно, предвидели и предприняли ряд мер, но они оказались недостаточными и теперь выход один: экономить на всем, в том числе и сокращать персонал. Гретхен и эта вторая девушка были приняты в отдел мистера Хатченса последними, поэтому их первыми и увольняли. Мистер Хатченс был так расстроен предстоящим расставанием с ней! Он даже несколько раз вытаскивал из кармана свой носовой платок и громко вытирал нос, чтобы тем самым показать, что инициатива ее увольнения исходит не от него. Тридцать лет работы с бумагами, несомненно, сказались на мистере Хатченсе, он и сам стал похож на бумажку, на оплаченный счет, который пролежал в ящике стола, пожелтевший, мятый, ломкий, потрескавшийся по краям, и вот неожиданно его снова извлекли на свет божий. Якобы переживаемые им в эту минуту эмоции были неуместны, как неуместны слезы в отделе кадров.
Гретхен пришлось самой утешать мистера Хатченса. У нее не было никакого желания работать до пенсии на кирпичном заводе Бойлана, сказала она ему, и она вполне понимает его: последняя принятая на работу сотрудница должна уйти первой. Она, конечно, не сказала ему об истинной причине своего увольнения и чувствовала себя виноватой перед этой несчастной девочкой, которую приносили в жертву, чтобы как-то завуалировать позорный акт мести со стороны Тедди Бойлана.
Гретхен не знала, что будет делать. Ей оставалось только надеяться на то, что она что-нибудь придумает, что все образуется до того, как отец узнает о ее увольнении. Само собой, скандала не избежать, и ей нужно как следует подготовить свою оборону. Сегодня, на ее взгляд, отец впервые в жизни вел себя как нормальный человек, и, может, в конце обеда, разомлевший от вина и гордости за одного своего ребенка, он станет более снисходительным и к другому. Ладно, подожду до десерта, решила Гретхен.