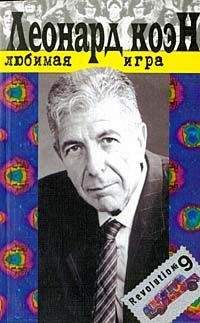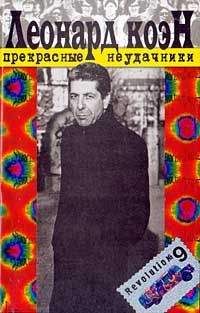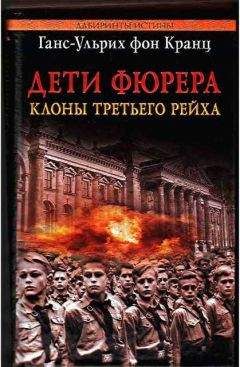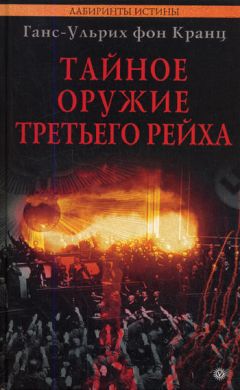– Можно зайти?
– Нет.
– Почему?
– Я одеваюсь.
– Вот именно.
– Пожалуйста, не заходи. Ты скоро от меня чудовищно устанешь. Во всех книгах написано, что я должна охранять свою тайну.
– Я хочу посмотреть, как таинственно ты одеваешься.
Что странного в том, что она понимала это служение ее присутствию как любовь.
Когда ты зовешь меня
сказать
что тело твое некрасиво
я хочу, чтобы руки мои и я сам
стали озерами
куда ты глянешь и засмеешься.
12
Шелл решила развестись. Гордон неохотно согласился. Он готовился к войне, но испугался, когда она пришла к нему в офис. Она была так спокойна и дружелюбна, расспрашивала о работе, радовалась его успеху. О браке говорила с нежностью, но относительно его финала была тверда, будто брак был игрой после ужина в сумерках, а теперь детям пора спать. Об источнике ее силы не нужно было гадать. Не считая одного дня, когда они заполняли какие-то последние бумаги, и он предпринял отчаянную попытку ее удержать, он был счастлив, что ему выпала удача провести с ней пять лет. А еще через несколько лет его литературные склонности, которые не оценили в «Ньюсуик», позволят ему по мотивам этой маленькой трагедии изображать себя страдальцем перед молоденькими женщинами.
– Это между нами с Гордоном, – сказала она Бривману. Как большинство любовников, они могли говорить только в объятиях друг друга. – Так что за шляпой не ходи.
Они прожили вместе почти год. Ей не хотелось, чтобы он воспринял развод как сигнал о своевременности предложения. Разумеется, она хотела выйти за него замуж. Она не была подготовлена к тому, чтобы оставаться любовниками, ибо любовь представлялась ей главным образом верностью, верностью, которая выросла из страсти.
Иногда ей казалось, что ни одна живая душа не может дарить столько нежности и внимания, если это не задел на будущее. Иногда, легко обнаруживая в сердце боль, понимала, что он может столько отдавать, только если собирается уйти.
Она уже отдала ему все – награда, которую мы вручаем лишь единожды в жизни. Она хотела, чтобы он любил ее открыто. Это почти абсолютный дар. Кроме того, ее воспитала школа героев-мучеников и, возможно, она видела себя Элоизой[94]. Лишь авантюрист способен любить, – это его писательство, – и лишь дама, отрекшаяся от дома и доброго имени, – это традиционное общество. Авантюристы покидают кушетку, дамы возвращаются к своим именам; понимание этого – испытание, что хранит силу объятий.
Мы нечасто встречаем людей, имеющих сходное с нашим представление о том, кем мы можем стать. Шелл и Бривман, а точнее, его заместитель, видели друг друга с таким замечательным великодушием.
Однажды днем она пришла в слезах. Он забрал ее перчатки и сумочку, положил на полированный деревянный комод, отвел на зеленый диван.
– Из-за того, что я сказала Гордону.
– Ты должна была ему сказать.
– Не все, что сказала. Я ужасна.
– Ты ужасная порочная ведьма.
– Я рассказала ему, как мне хорошо с тобой; не надо было этого делать. Я просто хотела сделать ему больно.
Они проговорили всю ночь, прежде чем Шелл смогла признать:
– Я его ненавижу.
Про себя Бривман заметил, что она оказалась от развода дальше, чем думала. Женщины очень серьезно воспринимают попытки искалечить их тела. Бривман не понимал, что, выговорив эти слова в его объятиях, она освободилась от ненависти.
Его беспокоила мысль о том, что Шелл принимает настоящие решения, действует, меняет свою жизнь. Он хотел наблюдать ее в покое. Это втягивало его в мир домов и автомобильных огней. Она становилась подлинным членом общества, использовала его любовь для обретения силы.
Предположим, он пойдет с ней к живой близости, к утешительной нескончаемой супружеской беседе. Не станет ли это отказом от чего-то более строгого и совершенного, пусть он и смеялся над этим, – от чего-то, что вживило бы ее красоту в улицы, уличное движение, горы, воспламенило бы пейзаж; чем он мог бы овладеть, будь он один? Не потому ли он смотрел на нее, наслаждаясь каждым жестом, выражением? Может, это всего лишь тревожная убежденность в том, что он не создан для успокоения. Тревожная, ибо ускользающая.
Он был очень спокоен. Он начал одобрять радости своего заместителя. Этот любовник был самой удачной штукой из всех его творений, и мучил соблазн предоставить ему бумажник и удостоверение личности, утопить Бривмана-господина на особенно замусоренном участке реки Гудзон.
Глазу Бривмана, что обучен был смотреть на вулканы, орды небесные, совершенные бедра, а теперь идеально трудился над ландшафтом тела Шелл, грозила опасность сна. Любовник все больше завладевал ею для себя. Такие моменты Бривман помнит не слишком отчетливо, потому что был тогда слишком счастлив.
13
Лето все еще было очень юным.
Знал ли ты, что незабудки такие крошечные?
Они взбирались на холм за хижиной, слушали птиц, заглядывали в справочник, чтобы распознать их по голосам.
Он не хотел дарить ей эти маленькие цветы, потому что оба они так внимательно прислушивались к названиям.
Они говорили о том, как расставаться. Для любовников это столь же далеко и интересно, как обсуждение защиты от водородной бомбы на конвенции мэров.
– …и если один из нас поймет, что не получается, он должен сказать другому.
– …и будем надеяться, у нас достанет храбрости быть хирургами.
Одна ветка березы восхитила Шелл.
– Они – будто голые деревья! Из-за них лес выглядит черным.
По ночам они слушали плеск озера, бьющего по песку и береговым камням. Темное светящееся небо из обожженной серебряной фольги. Крики птиц, теперь более влажные и отчаянные, словно речь идет о пропитании и жизни.
Шелл говорила, что все звуки озера различаются. Бривман предпочитал не вникать; он наслаждался помутнением счастья. Она умела слушать внимательнее, чем он. Детали делали ее богаче, а его сковывали.
– Если записать их свисты, Шелл, и замедлить пленку, услышишь совершенно замечательные вещи. То, что невооруженным ухом слышится как одна нота, часто в действительности оказывается двумя или тремя, пропетыми одновременно. Птица может пропеть три ноты одновременно!
– Я бы хотела уметь так разговаривать. Чтобы говорить сразу дюжину вещей. Если б можно было сказать все, что нужно, одним словом. Терпеть не могу все, что может случится между началом предложения и концом.
Пока она спала, он работал. Слыша ее легкое дыхание, он понимал, что день опечатан, и можно начать его записывать.
Странное искривление искренности удерживает меня от тебя…
Шелл проснулась среди ночи. Ночные мотыльки бились в окно, под которым он работал. Она подкралась к нему сзади и поцеловала в шею.
Он удивленно развернулся, с карандашом в руке, и ободрал ей кожу на щеке. Вскочив, опрокинул стул.
Они стояли друг против друга в холодном ровном свете коулменовского фонаря. Ночь оглушала. Вибрация и стук мотыльков, шипение лампы, вода, что трудилась над галькой, охота зверюшек – никакого покоя.
– Я думал, я… – он замолчал.
– Ты думал, что один! – с болью закричала она.
«Я думал, я…» – «Ты думал, что один!» – записал он, когда она вновь уснула.
14
Однажды ночью, глядя на нее, он решил на следующее утро уйти.
Иначе он останется подле нее навсегда, будет просто глядеть на нее.
Была середина июня. Он работал лифтером в маленьком офисном здании – паршивая работа. Дополнительные деньги получал за уборку в некоторых кабинетах по вечерам в пятницу. То был рахитичный лифт, брал максимум пять пассажиров и ломался каждый раз, когда заезжал ниже определенного уровня на подвальном этаже.
По ночам была Шелл, стихи и дневник, пока она спала.
Бульшую часть времени он был счастлив. Это удивляло и беспокоило его: так генералам становится неуютно во время затянувшегося мира. Ему нравился лифт, который иногда становился колесницей, иногда пыточным инструментом Кафки, иногда машиной времени, а в худшем случае – лифтом. Тем, кто спрашивал, как его зовут, он отвечал, что зовут его Харон, и приветствовал их на борту.
Потом были ужины с Шелл. Соломенная циновка на деревянном складном столе. Свечи и запах пчелиного воска. Сложные блюда, которыми любовники кормят друг друга, приготовленные в вине, скрепленные зубочистками. Или веселые нежные утренние пиры из консервных банок и замороженных коробок.
Завтраки по выходным – яйца и черничные оладьи, когда Шелл показывала себя гением древней фермерской кухни, на многие курсы истории удалившейся от Нью-Йорка, – их они в любой момент могли покинуть ради зеленого дивана, он был вне времени. Походы в кино, мифологический анализ паршивеньких вестернов, исторические обеды со спагетти у Тони, за которыми разоблачалась вся фальшь Бергмана[95].