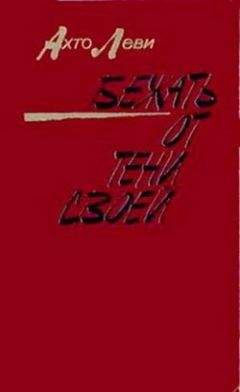«Дорогая Карин! Не могу тебе прислать денег до первого. Поэтому постарайся протянуть, а там пришлю. Насчет Лейлы не волнуйся, ее там не так уж плохо кормят. Ей скоро сделают операцию, тогда она и сама не захочет кушать. Ей ничего носить не надо. И постарайся ее как можно дольше там продержать. Ты не беспокойся, их там кормят хорошо. Она даже поправится, вот увидишь. Насчет меня не сомневайся, я свой отцовский долг помню…» Брошенная жена.
Подвел меня накольщик, в этом доме не оказалось даже хлеба. Как мне это надоело! Жил бы я этак пару столетий тому назад, тогда были разные графы, князья, купцы…
С сердцем моим стало плохо, кто-то тянется к нему своей рукой, скребет ногтями по нему – совесть, одно из тех понятий, которых в нашей среде не признают. И правильно делают. Плохо, когда по сердцу скребет совесть.
* * *
– А-а-а!
Кто это кричал? Я вскочил как ужаленный. Тотчас кто-то сильно постучал в дверь. Я быстро оделся, открыл. В коридоре люди.
– Товарищ, – спрашивают, – что у вас случилось, почему вы кричите?
– Это разве я кричал? Это не я.
Закрываю дверь. Но кричал я. Мне или мерещилось что-то, или видел что-нибудь во сне… Не знаю. Но это, конечно, кричал я. Потом я лег и скоро уснул. А потом опять проснулся.
«Мой час настал, и вот я умираю…»
Что это? Музыка где-то – ария Каварадосси. Больше заснуть не удастся. Лежу с открытыми глазами, и, сколько их ни гоню, перед глазами проходят разные картины. Вот убийство Саши Ташкентского, его зарезали в лагере, в закрытом бараке, воры. Я вижу, как он мчится по бараку, а за ним гонятся воры, его настигли, добивают… Потом вспомнил Олега Румяного. Появился страх, безотчетный, животный страх. Вскочил, опять оделся, начал бегать из угла в угол, как привык в тюрьме. Чего я, собственно, боюсь? Милиции? Нет. Смерти? Наверное, да. Хочется в Таллин. Когда я с Сирье, вроде не страшно.
Нахожусь в одном совершенно чужом, но гостеприимном доме. Пришел сюда вчера бог весть откуда и завтра опять куда-то уйду… Но если бы кто знал, как мне не хочется отсюда уходить!.. И не потому, что это место самое лучшее в мире, а потому, что очень надоело бродить, надоело бояться, потому что хочется жить среди людей, в тепле и покое.
В печи весело потрескивают дрова, из кухни слышатся звон посуды, хлопоты хозяйки, готовящей ужин, и детские голоса; у моих ног, о чем-то мурлыча на своем кошачьем языке, трется белый пушистый котенок. Все такое домашнее, только… я здесь чужой. Я просто попросился на ночлег, но, переутомленный, проспал сутки, и хозяева, видя, что я очень устал, предложили мне остаться еще на ночь. Они меня ни о чем не расспрашивают, и я им за это очень благодарен. Не часто мне приходится встречать скромных, бескорыстных людей.
Я помню, как однажды был вынужден бежать из одного дома, где также остался ночевать, потому что случайно подслушал разговор хозяев, собиравшихся заявить обо мне в милицию, – я им показался подозрительным. Да и что за отдых в чужих домах, где никогда не перестаешь опасаться хозяев?! Недавно в другом доме, где я остался ночевать, со мной случилась совершенно смешная история.
Этот дом, как и его обитатели, был какой-то особенный. Большой, с просторными, очень чистыми светлыми помещениями, которые были просто и красиво обставлены старинной мебелью. В доме жили четыре хорошенькие кошки с белыми бантиками на шее и четыре опрятные седовласые старухи.
Я очень устал и ни за что не хотел уходить из этого дома, я сутки не спал, буквально не стоял на ногах. Старушки согласились дать мне ночлег и повели в небольшую, тоже очень аккуратненькую комнатушку, где все стены были увешаны ликами святых. На столе я заметил громадную Библию.
Мне предложили садиться, откушать, что бог послал. Тоже неплохо, я был голоден. Накрывая на стол, они спросили меня, не божий ли я человек. Я? Божий человек?! Правда, ориентируясь по обстановке, я держался чрезвычайно скромно. Видимо, из этого они заключили, что я, возможно, божий человек. Я сказал, что да, божий, и добавил, что даже окончил духовную семинарию в Тарту. (Бог его знает, есть ли она там.) Незаметно одна из них вышла, остальные меня угощали и занимали благочестивой беседой. Тут тихо открылась дверь, и вошли две старушки; обращаясь ко мне, они сказали что-то связанное с Христом, что именно, я не расслышал. Они сели рядышком на стулья и почтительно на меня поглядывали. Немного погодя пришел старик и еще одна старушка, потом вошел молодой парень с тупыми бегемотовыми глазами. Все они меня приветствовали и, перекрестясь, рассаживались. Пока я лопал, их все прибывало, и я начал себя чувствовать не очень уверенно.
Они сидели, молчали, смотрели на меня и, видимо, выжидали, когда я кончу трапезу. «Что тогда?» – спрашивал я себя и старался отдалить эту минуту, пересасывая по три раза каждую обглоданную косточку. Ел, ел, но сколько можно – человек не бочка. Кончил. И тут мне говорят, что это собрались братья и сестры по редкому счастливому случаю, послушать слово божье. Затем мне придвинули тяжелую Библию.
До этого мне проповедовать не приходилось, но я взял Библию и начал читать, как умел, тихим голосом. Ну, а потом своими словами объяснил прочитанное. Слава богу, Библия, по-моему, настолько запутанная книга, что ее можно толковать по-разному. Потом мне это надоело. Я сказал, что, в сущности, Библия – это букварь для начинающих, и начал шпарить из головы о премудрости всевышнего. И влип.
Я настолько увлекся, что начал пророчествовать о таких великих временах, когда господь отдаст людям, верующим в него, другие небесные планеты, потому что на земле станет так тесно, что люди будут ходить впритык, как в таллинских трамваях в часы «пик». Тут меня прервала удивленная паства: они не сказали мне ничего, просто по одному вставали и, шепча себе что-то под нос, тихо уходили. Ко мне подошла одна беленькая старушка, взяла Библию и унесла; а другая сказала: «Идем отдыхать, сынок. Ты устал».
Я поднялся и ушел в свою комнату.
Откровенно говоря, мне было немного неловко, я, кажется, злоупотребил чьим-то гостеприимством: какое мне, собственно, дело до того, кто кому поклоняется, а эти меня все-таки накормили. Вскоре все живое в доме уснуло.
«Чем я не святой по сравнению с попами? – в озлоблении думал я. – Милосердия к бедным у меня куда больше, у бедных, как они, не клянчу, а имущества у меня, как у святого, – никакого, одной святостью, если разобраться, сыт».
Я, хоть и очень устал, лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к еле слышному сопению и храпению кошек, которые, все четверо, устроились на большом сундуке, неподалеку от меня, совершенно пренебрегая своими прямыми обязанностями в ночное время. Не могу сказать, сколько я так пролежал, как вдруг услышал странные звуки, будто кто-то тихонько ко мне подкрадывается.
Звуки приблизились к моему изголовью, потом их не стало слышно, но вдруг что-то холодное, отвратительно липкое всунулось мне в ухо и засопело… Я изо всех сил ударил этот ночной кошмар кулаком. Послышался отчаянный визг поросенка и затем возмущенное хрюканье обиженного животного, проникшего каким-то образом в мою комнату.
Поросятам я вообще-то симпатизирую, но что за жизнь, если приходится пугаться даже поросенка!.. Хочу в Таллин, страшно тоскую по Сирье.
* * *
Что такое побег?
Физическое ощущение свободы – и только.
* * *
Здравствуй, Сирье!
Сижу на вокзале и пишу тебе письмо, которое ты не получишь, потому что я запишу его в свой дневник. Мне так нужно сейчас с кем-то поговорить; а не с кем – вокзал есть вокзал, людей кругом сколько угодно, но какое им дело до меня?
Сир, мне надоело лишь играть роль человека, я хочу им быть. Я всегда смеялся над тобой, над твоими нравоучениями, но сейчас, вот сегодня, здесь, на вокзале, я понимаю, что ты не стала бы со мной ни о чем говорить, если бы не была уверена, что я стану человеком!
Я сегодня наблюдал, как работали строители. Они рыли котлован, были увлечены делом. Я подошел к ним, и они все на меня с любопытством уставились: мол, что за личность, в шляпе – штымп какой-то… Какая-то шустрая девчонка спросила:
– Вы новый каменщик?
Не знаю почему, но я сказал – да. Они мне все представились, жали руку. Спросили, когда выйду на работу. Я что-то соврал. Когда они закончили работу и пошли мыться, я пошел с ними. На миг почувствовал себя, как они. Никакой опасности, определенность. А потом они пошли домой, а я – на вокзал. Сейчас они все, наверное, разбежались, кто в кино, кто в школу, кто на свиданье. А я размышляю, куда направить свои стопы отсюда, и завтрашний день для меня так же в тумане, как и послезавтрашний.
Для меня существует лишь одна-единственная категория людей, такие, как Реcт, Пузо, Проныра и прочие. С ними мне не надо притворяться, потому что они такие же, как и я. Нас вечно окружает атмосфера жестокости, опасности, подлости: нам доступны только физические удоволь-ствия от вкусной еды, если удастся вкусно поесть, от женщин, которых нам любить некогда и невозможно, от вина. А когда мы встречаем что-нибудь хорошее, чистое, благородное – оно нам кажется недоступным, мы чувствуем себя разбитыми, пустыми, стараемся высмеять все хорошее, оправдываясь своей философией, которая, конечно же, нас оправдывает. Мы ищем общества только таких, как мы. Иные пути, чем те, которыми идем, для нас вроде неприемлемы, хотя они, может, не менее трудны, чем те, которыми мы идем. А пути другие существуют, и люди другие существуют, и жизнь другая тоже. Но мои пути не могут переплестись с путями-дорогами хороших людей, потому что от них я должен скрываться, перед ними я должен притворяться. Перед ними я только играю роль человека, и то не всегда удачно, потому что нельзя подражать тому, кого ты сам хорошо не знаешь.