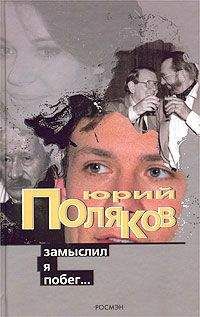— Голоден как волк!
— В каком смысле? — в голосе жены прозвучал томный отзвук вчерашнего приключения.
— Во всех! — проклиная себя, бодро ответил Башмаков.
…Утром, измученно собираясь на работу, Олег Трудович выглянул в окошко и спросонья не узнал собственной «пятерки».
— А где машина? — испуганно вскрикнул он.
Крик вышел таким громким, что Дашка поперхнулась бутербродом, а Катя выскочила из ванной, широко раскрыв глаза и даже забыв вынуть из белого от пасты рта зубную щетку.
— Да вот же! Вот! — выдохнула она, обнаружив автомобиль под окнами. — Тунеядыч, убью!
На следующий день Дашка, собираясь в школу, уже нарочно выглянула в окно и с деланным отчаянием закричала:
— Мама, машину свистнули!
И Катя, по интонации понимая, что ее разыгрывают, все-таки с недокрашенными губами метнулась к окну и потом спокойно заметила:
— Садистку растим!
Автомобиль украли в ночь с пятницы на субботу. Вечером Катя еще ездила по соседним улицам — тренировалась перед автопробегом Москва—дача. Башмаков, накануне отмечавший в «Сирени» чей-то день рождения, встал рано утром утолить закономерную жажду, автоматически выглянул в окно и с удивлением обнаружил, что место, где вчера стояла машина в тесном ряду своих одноконвейерных сестер, теперь напоминает дырку от выбитого зуба.
— А где машина-то?
— Да ну тебя к черту! Надоел! — сквозь сон ответила Катя.
— Я серьезно!
— Тунеядыч, я тебя кастрирую!
— Ты что, ночью переставила ее? — нащупал успокаивающее объяснение Башмаков.
— Ничего я не переставляла, — так же сквозь сон сказала Катя.
— А где же тогда машина?
Наверное, в голосе Башмакова просквозило что-то неподдельное, потому что Катя, закричав: «Ты врешь!» — бросилась к окну, несколько мгновений стояла безмолвно, а потом бесстрастно произнесла:
— Немедленно в милицию!
Зарыдала она уже в лифте.
В милиции они долго не могли выяснить, куда именно нужно обратиться. Мимо сновали озабоченные, не замечавшие их люди в форме, и Башмаков подумал: приди он сюда, неся на плече ногу от расчлененного трупа, никто бы даже не обратил внимания. Наконец их отправили в нужный кабинет.
— У нас украли машину! — трагически заявила Катя с порога.
Милиционер, не отрываясь от трубки телефона, кивнул, словно давно уже об этом знал, и протянул им чистый лист бумаги. Пока Катя писала заявление, Башмаков прислушивался к разговору, касавшемуся какого-то убийства с поджогом.
— А что там дактилоскопировать? Одни головешки остались…
— Вы найдете нашу машину? — жалобно спросила Катя, протягивая заявление.
— Застраховались?
— Н-нет, не успели…
— Сочувствую. Если что — позвоним.
Катя пришла домой, легла на диван и горько заплакала. На памяти Башмакова так — безысходно, тоненько подвывая — она плакала еще один раз: когда ей сказали в больнице, что детей у нее больше не будет. А вот окончательно убедившись в существовании Нины Андреевны как альтернативы своему супружескому счастью, она не пролила ни слезинки. Едва раздался тот идиотский звонок, Катя, ожидая вестей от следователя, опередила Башмакова, с утра маявшегося нехорошим предчувствием, и схватила трубку. Потом она долго слушала, блуждая взглядом по кухне, затем глаза ее нацелились на мужа и начали нехорошо темнеть.
— Спасибо, я учту вашу информацию, — холодно оборвала она чью-то неслышимую скороговорку и повесила трубку.
— Что случилось?
— Ты не догадываешься?
— Нет. Дашка в школе набедокурила?
— Нет, не Дашка набедокурила, а ты, любимый, наблядокурил!
— Ну, ты… — только и вымолвил Башмаков, почти никогда не слышавший от жены неприличных выражений, разве что когда рассказывала анекдот, и то старалась заменить нехорошее слово каким-нибудь «та-та-та». — А в чем, наконец, дело?
— Дело — наконец! — вот в чем: звонила какая-то ненормальная и сообщила, что ты любишь другую женщину. То есть ее. И что я не имею права препятствовать вашему счастью…
— Бред какой-то! — совершенно искренне возмутился Башмаков.
— Послушай, Тунеядыч, если это так, я тебя не держу и на коленях, как в прошлый раз, стоять не буду! Я ведь тоже понимаю, что любовь — это главное в жизни…
— Действительно, ненормальная! Кто же это мог быть? А-а, ну конечно… — он звонко хлопнул себя по лбу. — Я тут одну недавно уволил, и она просто мстит…
— Ты уволил Нину Андреевну? — усмехнулась Катя.
— Не-ет.
— Уволь, пожалуйста, или я уволю тебя, любимый!
На следующий день Нина Андреевна встретила его взглядом юной партизанки, без приказа взорвавшей накануне фашистский штаб. Он отвернулся, а в обеденный перерыв затащил любовницу в беседку возле доски почета. От ярости у него из ноздрей били струи пара:
— Зачем ты это сделала? Я же просил! Я же сказал — я сам!
— Сам ты не можешь. Я хочу тебе помочь. Я буду бороться за тебя и за нашу любовь!
— Не надо за меня бороться. Не надо!
— Надо. Даже Омка, ребенок, сказал мне…
— Да отстань ты от меня со своей любовью и со своим Омкой! — заорал он так, что сотрудники, проходившие мимо беседки, опасливо оглянулись.
Нина Андреевна посмотрела на него с ужасом:
— Ты понимаешь, что ты сейчас сказал?
— Извини…
— Нет. Не извиню!
Она зарыдала почти так же, как рыдала в его объятиях, и, наверное, сама почувствовав это неуместное сходство, закрыла лицо руками и убежала.
Катя в этот вечер сначала внимательно наблюдала подавленную задумчивость Башмакова, потом, во время ужина, завела с Дашкой разговор о недопустимости измены в дружбе между мальчиками и девочками, а затем, уже перед сном, накладывая на лицо ночной крем, деловито спросила:
— Неужели уволил?
— Уволил.
— Я могу спать спокойно?
— И не спать тоже.
Больше он у Нины Андреевны не ужинал. На работе они продолжали поддерживать ровные и настолько вежливые отношения, что в отделе сразу обо всем догадались. Лишь иногда бывшие любовники встречались взглядами, и в перекрестье, словно голограмма, возникали два сплетенных страстью нагих тела, но взгляды разбегались — и мираж исчезал. В свой кабинет Башмаков теперь Чернецкую не вызывал, но однажды она вошла сама и без слов ударила его наотмашь по лицу. На следующий день он нашел в папке для приказов записку:
«ПРОСТИ! Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ И БУДУ ЖДАТЬ, СКОЛЬКО ПОНАДОБИТСЯ!!
Н.»
Башмаков приписал третий знак восклицания и разорвал записку.
Было уже пятнадцать минут первого, а Вета все не звонила. И это странно. Несмотря на свою молодость, она девушка обязательная и пунктуальная. Может быть, что-то не так с анализом? Эскейпер в раздумье пошел в дашкину комнату к аквариуму: непойманный «сомец» высунулся из раковины, но совсем чуть-чуть, так что сачок подвести к нему было невозможно.
«Ишь, какой хитрый! — подумал Олег Трудович. — Не хочет переезжать! А кто хочет?..»
В свое время, задумываясь по пустякам, Башмаков сделал вывод: все люди, в сущности, делятся на две категории — на тех, кто любит переезжать, и тех, кто не любит. Любящие переезжать раздвигают пространство жизни. Нелюбящие переезжать берегут это раздвинутое пространство от запустения. Не будь одних — человечество так и жило бы под той пальмой, где родилось. Не будь вторых — вся земля представляла бы собой пустыню, выбитую стадами переселенцев, витками мчащихся по земному шару. Вот такая получается гармония. Когда человек жаждет переезда, а ему не позволяют, он превращается в бунтаря, в революционера и меняет свою жизнь не с помощью перемещения в пространстве, а посредством разрушения старого обиталища. В результате тот, кто даже не помышлял о переезде, не сделав ни единого шага, однажды утром просыпается в совершенно ином, чуждом мире и начинает этот новый мир в силу своего отвращения к переездам беречь, лелеять и обустраивать. Башмакову иногда казалось: если бы всем желающим, тому же Борьке Слабинзону или Джедаю, вовремя дали возможность отъехать куда хочется, все осталось бы по-прежнему. Советский Союз был бы целехонек, а сам Олег Трудович, глядишь, защитил бы докторскую и стал заместителем директора «Альдебарана». Но все случилось так, как случилось… После угона машины Катя еще долго старалась не подходить к окну, чтобы не видеть то место, где в последний раз стояла ее умыкнутая красавица цвета кофе с молоком. Петр Никифорович Катю успокаивал, обещал по знакомству вне очереди купить и подарить новый «жигуль», краше прежнего, но что-то там у него не заладилось. Деньги начали стремительно обесцениваться, поэтому даже по знакомству сверху запросили столько, что тесть временно отступил. Основные сбережения лежали у него на срочном вкладе. Боясь потерять годовые, снимать с книжки он ничего не стал, а просто вдвое увеличил цену на чешскую плитку и югославские обои. Творческие друзья Петра Никифоровича крякнули, но выдержали…