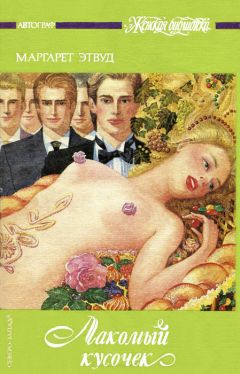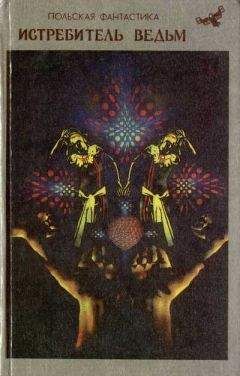— Все уже позади, — сказал он. — Тебе лучше?
Я была опустошена, выпотрошена; я пахла солью и йодом, во мне оставили зерно смерти, как семя.
— Тебе холодно, — сказал он. — Ну поехали, надо поскорее доставить тебя домой.
Он разглядывал меня в жарком свете, держа руки на руле, как ни в чем не бывало, оно и лучше. У меня на коленях, прижатые к опустевшему животу, лежали сумка и чемоданчик. Я не могла вернуться домой, я так больше туда и не вернулась, только отправила им открытку.
Они и не узнали никогда про это, не знали, почему я ушла из дома. Я не могла им объяснить, мне не позволяло их целомудрие, опасное целомудрие, отгораживавшее их, как стекло; их искусственный садик, оранжерея. Они не преподавали нам знаний о зле, потому что сами о нем не ведали, как же мне было описать им его? Они были из другой эры, доисторической когда все женились и обзаводились семьями и у всех росли дети в саду, будто подсолнечники, — далеко от нас, как эскимосы или мастодонты.
Я открыла глаза и села, Джо все еще был рядом, он держался за борт моей лодки.
— Тебе что, плохо? — спросил он. Его голос донесся до меня еле слышно, словно чем-то заглушенный.
Он сказал, что я должна, он меня толкнул на это; по его словам выходило, будто все это законно и просто, вроде как бородавку удалить. Он говорил, что это не человек, а всего лишь животное; но я должна бы понять, что нет никакой разницы, оно пряталось во мне, как в норке, а я, вместо того чтобы укрыть его, позволила им его поймать. Могла сказать «нет», но не сказала; и значит, я не лучше их, я тоже убийца. После кровопролития, преступления, он все не мог взять в толк, как это я не хочу его больше видеть. Он недоумевал, обижался, он ожидал признательности, ведь он все для меня сам устроил, благодаря ему я опять в полном порядке, вон как огурчик; другим-то на его месте, говорил он, горя бы мало. С той поры я постоянно носила в себе эту смерть, обрастающую новыми слоями, как опухоль, как черная жемчужина; а признательность, которую я теперь испытывала, была не ему.
Надо было выйти на берег и что-нибудь там оставить; так полагалось — оставить что-то из одежды, вид жертвоприношения. Мне жаль теперь было тех монеток, которые я послушно клала в церкви на блюдо для сбора пожертвований, я так мало получила взамен; давно утратили силу их улыбчивые гравированные Иисусы и те, другие, в виде статуй, застывшие в неловких стилизованных позах; священное троекратное имя низведено до простого ругательства. Только здешние боги, иже суть и на суше и в воде, непризнанные или преданные забвению, давали мне то, в чем я нуждалась, давали в щедрости своей.
Теперь крестики на карте и рисунки обрели окончательный смысл: сначала он, очевидно, просто искал наскальную живопись, выбирал по карте подходящие места, находил, прорисовывал, фотографировал — хобби пенсионера. Но потом они открылись ему. Индейцы не владели тайной спасения, но они знали когда-то места, в которых оно живет, и помечали их мистическими знаками, священные места, где можно познать истину. Не было наскальных изображений на озере Белой Березы, как не было их и здесь, его последние рисунки не скопированы с камня. Он открыл новые места, новых оракулов и рисовал то, что видел сам, как еще раньше видела их я; подлинные видения те, что в конце, когда логика бессильна. Когда это с ним случилось впервые, он, наверно, был страшно испуган, это было как шагнуть в обычную дверь и оказаться в другой галактике — фиолетовые деревья, красные луны, зеленое солнце.
Я взмахнула веслом, и пальцы Джо разжались. Моя лодка устремилась к берегу. Я сунула ноги в кеды, скатала майку в узелок и вышла, привязав чалку к ближнему дереву. И стала подниматься сбоку по крутому склону на самый верх каменной стены, по левую руку деревья, по правую — обрыв; пахло пихтой, кустарник царапал мне голые колени. Там был уступ, я заметила его с воды, на него можно было забросить мою майку; я не знала по имени тех, кому оставляла приношение, но они существовали, они были здесь и обладали силой. Свечи перед статуями, костыли у подножия, цветы в стеклянных банках у придорожных крестов — признательность за исцеление, пусть вымоленное, пусть даже частичное. Что-нибудь из одежды будет лучше, она ближе и необходимее, ведь и они меня одарили щедрее: не какая-то одна рука или глаз, ко мне стали возвращаться, просачиваться в меня чувства, меня всю покалывало, как иголочками, будто онемевшую ногу.
Вот уже можно заглянуть на уступ, он весь зарос ягелем, густо сплетенным в комки, кончики подкрашены солнцем. Совсем близко, рукой можно достать. Я плотно скатала майку и забросила на уступ.
Снизу по склону ломился кто-то грузный, трещали сучья. Я совсем забыла про Джо. Он долез до верха и взял меня за плечи.
— Тебе что, плохо? — спросил он еще раз.
Я не любила его, я была от него далеко, он виделся мне словно сквозь немытое окно или промасленную бумагу; здесь ему было не место. Однако он существовал, он имел право жить. Мне захотелось научить его, как измениться, чтобы добраться туда, где я.
— Нет, — ответила я.
Я прикоснулась ладонью к его локтю. Моя ладонь коснулась его локтя. Ладонь коснулась локтя. Язык расчленяет нас на части, а я хотела цельности.
Он поцеловал меня. Я осталась по эту сторону окна. Когда его голова отодвинулась, я сказала:
— Я тебя не люблю.
Я хотела объяснить, но он, кажется, не услышал, его губы были у меня на плече, а пальцы расстегивали застежку у меня за спиной, потом поползли по бокам, он толкал меня, будто складывал садовый стул, хотел, чтобы я легла на землю.
Я вытянулась внутри себя во весь рост, подо мной топорщились сучки и иголки. В эту минуту я подумала: может быть, для него я тоже дверь туда, как озеро было дверью для меня? В нем сгустился лес, полуденное солнце спряталось за его головой, лица было не видно, солнечные лучи исходили из темной сердцевины, от моей тени. Но покровы раскрылись, и я увидела, что он — человек, он мне не нужен, это кощунство, он тоже убийца, у него за спиной раскиданы глиняные жертвы, изуродованные, погубленные, а он и не подозревает, не ведает о себе, о своем пособничестве смерти.
— Не надо, — сказала я. — Я не хочу.
— Да что с тобой? — спросил он, сердясь. А потом придавил меня к земле, пальцы — наручники, зубы вжимая в губы, наказывая меня, настойчивость его тела — довод в споре. Но я вырвала руку и просунула между ним и собою, надавила ему на горло, он откинул голову.
— Я забеременею, — сказала я. — Сейчас как раз время.
Это была правда, его она остановила: плоть, порождающая новую плоть, — чудо, их всех оно отпугивает.
Он первым догреб до мостков, оставив меня позади, его бешенство влекло лодку мощно, как мотор. Когда я причалила, он уже исчез.
В доме никого не было. Он изменился, стал будто просторнее, казалось, я Бог весть как давно в нем не была; та часть меня, которая начала возвращение, еще к нему не привыкла. Я снова вышла наружу, откинула крючок на калитке в загородку и села там на качели, осторожно, не плюхаясь сразу, но веревки держали. Сидела, не отрывая ног от земли, покачиваясь взад-вперед. Валуны, деревья, песочница, в которой я строила домики, галькой выкладывая окна. Птицы тоже были здесь, сойки, синицы; но меня они боялись, неприрученные.
Я покрутила кольцо у себя на левой руке, сувенир, его подарок, — простой золотой ободок, он говорил, что не любит ничего кричащего; с кольцом было проще устраиваться в мотелях, золотой ключик, а в промежутках я носила его на цепочке на шее. Холодные ванные, одна на два смежных номера, кафель студит пятки, идешь, завернутая в чужое полотенце, — в резиновые времена, когда предохранялись. Он клал часы на тумбочках так, чтобы видеть время, чтобы, не дай Бог, не опоздать.
Я для него могла быть кем угодно, но он для меня был уникальным, первым, здесь я проходила обучение. Я боготворила его, юная возлюбленная, идолопоклонница, я сберегала все написанное его рукой, как святые чудотворные реликвии, писем он не писал, в моем распоряжении были только критические разборы моих рисунков, красным карандашом на отдельном листочке, подколотом канцелярской скрепкой. Ставил он мне все больше «уды», он был идеалистом и не хотел, чтобы наши «отношения», как он это называл, влияли на его эстетические оценки. Он хотел, чтобы наши «отношения» вообще ни на что не влияли, они должны были быть сами по себе, а жизнь — сама по себе. Диплом в рамочке на стене — свидетельство того, что он еще молод.
Но он говорил, что любит меня, это правда; это я не присочинила. Говорил в ту ночь, когда я заперлась в ванной и пустила воду, а он плакал за дверью. Когда я сдалась в конце концов и вышла, он показал мне фотоснимки своей жены и детей, его аргументы, его семейство, чучела на пьедесталах, у них и имена были, он сказал, что я должна проявить зрелость.