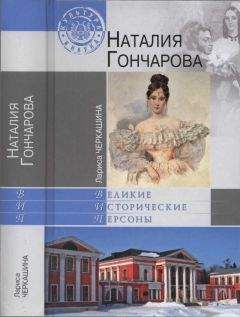Со мной-то он не был вежлив, и я считала, что это — большой комплимент. Но так продолжалось несколько лет, и мне надоело быть для него каникулами, плавать в невесомости. Выдохлась я, как дельфтские воздушные шарики.
Он скрылся по ту сторону горизонта и только присылал иногда письма из миража, а мираж этот казался совершенно несуществующим, возникшим на почве моей жажды и безнадежности окружающей пустыни. Какие там пальмы, какой оазис — голову напекло в коммунальной, на пять семей и четыре конфорки, кухне… А потом, в теперешней инкарнации, в скалистом моем городе, на суровом моем острове, где простая и непреложная бухгалтерия доказывает невозможность никаких разлюли-малина романтических воспоминаний, и европейских капризов, и безответственных каникул — до того ли было?
Но все же вспоминала и думала, что встретимся и что-то разъяснится…
Теперь это полуразвалившееся подворье покрасили, крест позолотили, религию реабилитировали, газовые плиты у дверей больше не стоят. И та замечательная комната теперь опять келья, свечки в ней зажигают с другими целями. Но греха там, я уверена, полно. Под кроватью небось опять запрещенные книжки спрятаны. Только теперь — унылая монашеская порнуха, а не стихи, романы и религиозно-философские трактаты, не самиздат, как у нас…
Мне попадался и другой учебник, сочинение маркиза де Сада «Сто ночей Содома». И опять поразило меня количество правил, списков, дотошных расписаний, и одна, самая удивительная фраза: «Все оргии должны завершаться в два часа ночи». Ах, маркиз, маркиз, да где ж ты такие оргии видал, которые «должны»? Да еще в два часа ночи?
Они ведь похожи были — самиздат и адюльтер. Незаконные свидания на одну ночь, наслаждение, обостренное опасностью… Прочти и передай, извините за выражение, товарищу. Свободная любовь, свободная литература, тяжелые последствия…
А объективные качества наших партнеров, как и объективная ценность прочтенной нами тогда литературы были неизвестны и останутся неизвестны… Лучше не смотреть в ту сторону, не перечитывать.
Вот что я о нем знала, чего никто не знал: он всегда так боялся скуки и обыденности, как люди боятся крыс и темноты. Кто чего боится, то с тем и случится. И будет случаться, каждый день, с восьми до пяти, до самой смерти.
…Кузина, помнишь Грандисона?
* * *
Во Франции, в приближающейся Франции, есть у меня не то чтобы кузина, а дальняя родственница, скорее подруга. Приятельница.
Днем я буду бегать по городу, а ночевать у Дашеньки.
Дом старый, внизу булочная, и дом весь как булка, с лепниной. Я похожие узоры лепила когда-то из теста на пирогах для неблагодарных славистов. В подъезде изразцы с порочными модернистскими извивами, болотного, извращенного цвета. Узорчатые перила лестницы; по таким лестницам в фильмах, стуча каблуками, сбегают убийцы. Древний, красного дерева, трясущийся лифт. Очень красивая трущоба.
Дашеньку не видела я много лет. Она рыжая, кузина Дашенька, широкая душой и телом, тициановская и роскошная.
Она предлагает мне борщ. Квартира пахнет капустой и махоркой. Видимо, в Европе их не обеззараживают, не дезинфицируют, как нас в Новом Свете. Мы уже давно не пахнем, тем более — капустой.
Весь первый день Дашенька поит меня спитым чаем из гжельского чайника, побуревшего от частого употребления, с ущербным горестным носиком. К вечеру, то есть с пяти часов, мы пьем водку.
Я отвыкла сидеть часами за неубранным столом, покрытым к тому же платком с бахромой, с пятнами борща и свекольного цвета розами. Посредине стоит резная славянская шайка с окурками.
Мы вспоминаем прошлое. Она почему-то думает, что в прошлом у нас было много общего. Но ее прошлое было гораздо интереснее. Ей бы с амстердамской блудницей познакомиться. Впрочем, между двумя такими массами эксгибиционизма может произойти не притяжение, а отталкивание.
Хотя страсти у Дашеньки, конечно, другие. Страсти ее не только не доходные, а всегда убыточные. Она романтик, у нее собственная жизнь с прочитанной сливается.
Все дело в том, как ты об этих страстях первоначально узнаешь. Вот теперь для детей учебники выпускают, и там написано, что у пап бывают краники, а у мам — дырочки, и эти нудные краники и мерзопакостные дырочки входят в контакт исключительно с демографическими целями.
Как говорила королева Виктория: «Зажмурься, дочь моя, и думай о Британской империи».
Оправдывается этот ужас тем, что иначе дети узнают о фактах жизни от своих ровесников, получат искаженную и вульгарную информацию.
Я получила информацию от ровесников, но тоже про империю часто вспоминаю. Нас информировала бледная и недокормленная восьмилетняя Раиска, жившая на фабричной заставе. И рассказало это дитя народа следующее: «…Пришел Пушкин к императрице Екатерине Великой. Она ему показывает и говорит — это что? А это что? А это? Пушкин все назвал. Тогда императрица Екатерина Великая говорит: „Ложись, Пушкин, на поле Алтайское, звони в колокола Китайские, суй штык Наполеона в пещеру Соломона!“».
И что же тут, скажите вы мне, вульгарного и что тут неправильного, кроме небольшой хронологической ошибки с Екатериной?
Так это и слилось неразделимо в наших девичьих мозгах: штык Наполеона, и поэзия, и история, и необъятные просторы Алтая, и «Песнь Песней», и храбрый Пушкин, дающий всему имена, как праотец наш Адам.
Голландская сонливость у меня прошла совершенно — или это было с перелета? В четыре часа ночи за окнами шум, как во всяком бедном районе, а в квартире душно и все насквозь прокурено. И подумать только, что когда-то и я курила! Теперь даже вспомнить странно.
Я встаю с дивана, пробираюсь в незнакомой темноте к столу, выкидываю окурки из шайки. Подхожу к окну с бронзовой задвижкой, с мраморным подоконником. Из окна виден и вправду мокрый бульвар, дрожат фонари в лужах, по бульвару и вправду под мелким дождем спешат люди с зонтиками — видимо, парижане. Утром я отсюда сбегу.
Утром на бульваре и вправду жареные каштаны продают. Серо, мокро, свет перламутровый. Я в Париже? На углу под деревьями — вход в метрополитен. Самый красивый в мире, порочный и растленный шрифт модерн. Но там, внизу, я еще не была. Я и изразцов в подъезде больше никогда не увижу. Меня кузина не отпускает. Окно заперто, она по старинке сквозняков боится. А внутри квартиры из французского — только голубенькие пачки «Голуаза».
— Чего ты там не видела, — говорит Дашенька. — Дождь, простудишься. Скучный город, уверяю тебя. Никакой в нем романтики. Лучше поговорим, посидим. Хочешь чаю? А водочки? И ничего не рано. Я борщ могу разогреть. Помнишь, как…
Дашенька закупает водку в канистрах: одна ручка сбоку и дополнительная ручка у горла, иначе не поднять. Это под крышами Парижа так можно, а у нас, если о прошлом размышлять, как раз без крыши над головой и останешься. У нас больше про завтрашний день задумываются.
Я не совсем в Париже. Я совсем не в Париже. Дашенька с большим трудом достала где-то гречку, специально для меня, и угрожает сварить гречневую кашу, и не верит, что живу я в таком городе, где мирно сосуществует еда не только всех народов, но и всех эпох.
А из нашего общего прошлого я помню только одну ночь.
Она прибежала ко мне поздно вечером, без звонка, с очень тяжелым чемоданом, набитым книгами, с бутылкой водки и двумя дефицитными свежезелеными огурчиками. И книги, и огурчики принес в ее дом иностранный журналист. Водку она купила сама.
Весна была, шел проливной дождь. Дашка переоделась в мой халат и сушила свои огромные, дикие, замечательно рыжие волосы.
Вначале предполагалось, что мы немножко выпьем, она пойдет домой, а я припрячу эти опасные книжки на неделю. Они с мужем боялись обыска. Но выпить немножко она уже и тогда не могла. Кроме того, до самого моего дома за ней шел какой-то тип.
— Ну ни в жизни не догадаюсь: это слежка или он ко мне пристает? Может, хвост. А может, я ему просто понравилась.
Чекист шел за Дашенькой или сексуальный маньяк, а все одно лучше было пересидеть. Тем более что потом даже гроза началась.
И она целую ночь рассказывала мне про свой тогдашний роман.
Рассказывала она, с одной стороны, с глубоким психологизмом и с множеством литературных параллелей, с другой стороны — с деталями, достойными амстердамской блудницы. Замечательная рассказчица была Дашенька. И замечательный конспиратор: имени своего возлюбленного так и не назвала.
Под утро она убежала домой, муж ее к тому времени уже с ума сходил, думал, что загребли ее тепленькую с чемоданом.
А я осталась размышлять о странностях любви и перечитывать принесенные ею сокровища. Оруэлла, который воспринимался особенно остро, так как мог в любую минуту перейти в реальность. «Доктора Живаго», который наводил на мысль о том, что чего не бывает, любовь зла.