Томас Бернхард - Все во мне
На сайте mybooks.club вы можете бесплатно читать книги онлайн без регистрации, включая Томас Бернхард - Все во мне. Жанр: Современная проза издательство -,. Доступна полная версия книги с кратким содержанием для предварительного ознакомления, аннотацией (предисловием), рецензиями от других читателей и их экспертным мнением.
Кроме того, на сайте mybooks.club вы найдете множество новинок, которые стоит прочитать.
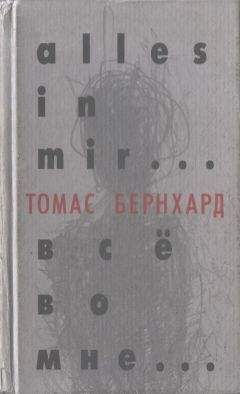
Томас Бернхард - Все во мне краткое содержание
Все во мне читать онлайн бесплатно
Вспоминаю «Деттингенский Те Deum», «Мессию» Генделя — его я любил с самого раннего детства, Бахом восхищался, но он не доходил до глубины моего сердца, зато Моцарт был моей собственной жизнью. Моя учительница, одна из лучших представительниц своей профессии, поставила мне голос, научила владеть им, развивать его физически, как требовалось хорошему певцу, а ее муж, музыковед, развивал меня умственно. Я погрузился в эти занятия по своей охоте, без малейшего сопротивления, я понял, что эти уроки, выполнение этих трудных заданий могут стать огромной радостью, и я был счастлив. Особенно мне шло на пользу то, что все теоретические уроки я мог в том же доме, на Пфайфергассе, с огромной пользой приложить на практике, и то, чему меня учил профессор Вернер, очень помогало в занятиях с его женой, и наоборот — практика подкрепляла теорию. В дни занятий, обычно через день, на Пфайфергассе собиралось несколько учеников моей преподавательницы; особенно мне памятен сын каретного мастера с Глокенгассе — баритон Петшко, мы с ним много лет пели дуэтом; вспоминаю я и дочь всеми уважаемого, широко известного владельца экспортной конторы — под выходные дни ее нежное сопрано звучало вместе с нашими голосами, — помню и глубокий альт одной баварки. Мы пели доступные нам дуэты, и терцеты, и квартеты, и, к великой радости нашей и всех наших родных, мы стали часто выступать в домашних концертах в семьях моих соучеников, чтобы, по словам нашей учительницы, привыкнуть не робеть перед публикой и держаться просто и естественно. Профессор Вернер, который, как я уже говорил, во время войны потерял в Ганновере все свое состояние, несмотря на это, остался милым, приветливым человеком. После каждого нашего концерта он к вечеру выходил из дому с аккуратно переписанной от руки критической заметкой — настоящим произведением искусства, как я теперь понял, и нес этот материал из дому через Моцартплац, по Юденгассе, через Большой мост, на шоссе в редакцию «Демократишес фольксблатт», где охотно печатали его статьи, всегда интересные и удивительно глубокие его мысли. Он был не только музыковедом, но и настоящим философом, и редакторы, вместе с читателями «Демократишес фольксблатт» — единственной социалистической газеты в городе, — очень высоко ценили, хотя и плохо понимали его. Наш Вернер всегда выглядел очень корректно в сшитом на заказ костюме с жилеткой, очень следил, чтобы башмаки были начищены до блеска, а в жилетном кармашке у него лежали часы с непомерно длинной цепочкой. По вечерам в так называемом «уголке», на кухне за стеклянной перегородкой, где и зимой и летом было очень уютно, он обычно допивал свой стакан красного вина и сразу укрывался в своем рабочем кабинете и писал музыку. Этот счастливый брак двух совершенно непохожих людей был, по крайней мере для меня, лучшим на свете, и я ни разу не замечал никаких сдвигов в их прекрасных отношениях. Война, принесшая столько разрушений и горя всему миру, их тоже не миновала. В доме, где родилась моя учительница, я мог по картинам на стенах восстанавливать ту эпоху, которая уже давным-давно отошла. Живопись и множество гравюр мне были очень по душе, вообще в этом доме осталось нетронутым то, что в наше время, когда все разрушалось, уже давно перестало существовать. А тут все осталось наперекор времени. Мне казалось, что по дороге на Пфайфергассе я проходил сквозь хаос, сквозь мерзость запустения в не тронутый этой мерзостью другой мир. Возможно, что я ошибался. Но, когда я подымался по голым каменным ступеням холодной лестницы, я чувствовал, что очищаюсь, уже очистился всей душой. Потом я звонил, мне открывали дверь, и чаще всего госпожа Вернер, урожденная Кельдорфер, молча приложив указательный палец правой ручки к губам, показывала мне, что надо говорить тихо, потому что профессор пишет. И мы на цыпочках проходили в гостиную, к «Стейнвею». Все говорилось шепотом, стояла, так сказать, мертвая тишина. Но через несколько минут нам стучали в дверь, значит, наш музыковед окончил работу — может быть, он как раз писал критическую статью о нашем последнем концерте, — мы открывали ноты, и начинался урок. Голос у меня был очень сильный, я иногда думал, что в гостиной от него все может разлететься вдребезги, а телом я был худ, очень высок, и в эти годы на мне часто выступала какая-то сыпь — признак психической неуравновешенности и наступления половой зрелости. Я любил дом на Пфайфергассе, я любил людей, живших в нем. Моя учительница сделала, как я уже рассказывал, блистательную карьеру; думаю, что она не нуждалась в платных уроках, а мне давала их почти безвозмездно. Вскоре она пристроила меня в церковный хор в нескольких соборах, и я часто пел на утренней мессе по воскресеньям. При настойчивости, самодисциплине, неутомимой, непрестанной работе, говорила она, моей блестящей певческой карьере ничто помешать не может. Надо поработать еще года два, но я, наверно, и сам понимаю, что время летит. Красивых, хороших голосов очень много, но надо иметь свое лицо, свою индивидуальность. А есть ли у меня своя индивидуальность? Нет, она не сказала, что у меня уже есть своя индивидуальность. Она была строга, точна, не спускала ни малейшей ошибки. И пока эта, пусть самая маленькая ошибка, не была исправлена, урок дальше не шел. Иногда она даже грозила мне бросить занятия, совсем перестать заниматься со мной, хватит ей возиться с такой ленью, с такой инертностью. Но эти угрозы ничем не кончались. Дома к моим занятиям музыкой, то есть к моей второй попытке приобщиться к музыке, отнеслись неодобрительно, все мои старания казались им пустой тратой времени и денег, и, хотя мой дед всегда и во всем был моим заступником, поддерживал меня целиком и полностью, переубедить их было невозможно. Только я, как им казалось, вступил на правильный путь, то есть выбрал верную, им понятную и ясную дорогу, как вдруг началось это дурачество, как они называли мои занятия, и все пошло прахом. Их подозрительность, их близорукость и, проще говоря, их необразованность сказывались каждый раз, когда я пытался что — то делать, в чем-то пробовать свои силы. Но я уже за это время успел окрепнуть, и сбить меня, поколебать любое мое решение им было уже трудно. Я собрал всю свою волю, все силы и твердо решил больше ни на что не злиться. Они меня задергали, задурили мне голову, мешали как могли, но я твердо стоял на своем. В подвале я получал свою заработную плату, сам платил за уроки музыки, а в остальном был совершенно нетребователен — лишь бы выбраться и пойти дальше, а откуда выбраться и куда пойти, спрашивать себя мне не приходилось, и оглядываться назад я себе не разрешал. Я должен был ходить в Шерцхаузерфельд, в подвал, чтобы потом идти в дом на Пфайфергассе, петь там свои арии и чувствовать себя счастливым. По вечерам я забирался на Монашью гору, усаживался в тень дерева, ни о чем не думал — просто смотрел вниз, и это было счастье. Я нашел любимое место, где из здания Оперы в парке слышалась музыка. Я слушал «Волшебную флейту» — первую оперу в моей жизни. Я сам выучил в ней три партии — Зарастро, Ведущего и Папагено. Все, чего я ждал от музыки, воплотилось в этой опере, и всю жизнь, при каждой возможности, я слушал и слушаю ее без конца. Так я сидел под деревом, слушал, и эту радость не променял бы ни на что на свете. А на «Орфее и Эвридике» Глюка я просто был помешан. Годами я подымался на Монашью гору и слушал репетиции из здания Оперы. Годами я этим дополнял свое музыкальное образование, обогащал, расширял, совершенствовал свой опыт. Позже я и сам стал принимать участие во многих репетициях, а во время музыкальных фестивалей пел в мессах и ораториях. Но до этого мне совершенно неожиданно пришлось пережить очень тяжелое время. На третьем году службы в подвале, в октябре, когда мне шел восемнадцатый год, мне пришлось разгружать машину с несколькими тоннами картошки. Шел густой снег, и я простудился. Я заболел тяжелейшим гриппом. Много недель я пролежал дома в постели с высокой температурой, пока мне это непривычное состояние не надоело до одури. Я встал, хотя меня еще сильно лихорадило, отправился на работу и дорого поплатился за эту потрясающую глупость. Я тяжело заболел и четыре года провалялся по больницам и санаториям, часто, как говорится, между жизнью и смертью, и мои родные то надеялись на мою поправку, то совсем теряли надежду. От дедушки я научился всю жизнь вставать рано, обычно около пяти утра. И теперь, во все времена года, я выдерживаю этот ритм, и ежедневная самодисциплина помогает мне преодолевать непрестанное чувство апатии и борется с назойливой мыслью, что всякая деятельность вообще ни к чему. И справляюсь я с собой, только полностью отключаясь и душой и телом от всего окружающего, и делаю только то, что мне самому необходимо. Состояния такого полного душевного восстановления могут переходить и в свою противоположность, я, как и все, завишу от всяких своих душевных колебаний и от всяческих, не всегда мне понятных перемен в окружающем мире, но спасаюсь я, только придерживаясь железного распорядка дня. Только оттого, что я постоянно борюсь с собой и насильно заставляю себя делать именно то, что надо, я и могу жить. Когда я пишу, я ничего не читаю, когда читаю, ничего не пишу, а иногда я подолгу ничего не читаю, ничего не пишу — мне все одинаково противно. Иногда мне надолго может опротиветь всякое чтение, всякое писание, и тогда, в полном бездействии, меня гложет мысль о том, какую я перенес катастрофу, очень личную и очень странную, я начинаю думать, что, с одной стороны, все было сплошной нелепостью, но с другой — сделало меня таким, каким я теперь стал и чего я достиг, несмотря на все эти, казалось бы, обычные, будничные и вместе с тем противоестественные, фантастические и нелепые встряски, которые мне пришлось пережить. Раньше я приходил в отчаяние, бесился из-за всяких помех и подвохов, на которые я натыкаюсь почти ежедневно, но стоит мне только уяснить себе, почему так случается, и я уже не обращаю на них никакого внимания, и меня вообще уже ничто не трогает, не убивает, как только я уясняю себе, почему так вышло. Уяснить себе свою жизнь, то есть не только пересмотреть ее, но до мелочей, день за днем, выяснить, почему она стала именно такой, — вот единственная возможность справиться с ней. Раньше я был лишен возможности вмешиваться в эту смертельную схватку, ежедневную борьбу за жизнь, у меня на это не было ни ума, ни сил, а теперь этот механизм сам срабатывает безотказно. Ежедневно я везде навожу порядок, и у себя в голове, в мыслях тоже все ставлю на место. А лишнее выбрасываю, просто выкидываю из головы, и все. Такая беспощадность к себе тоже приходит только с годами. Чтобы не поддаваться всяким модным течениям, нужна полная изоляция, непоколебимая душевная твердость. Сколько всяких течений в умственной жизни сменилось у меня на глазах. Пошляки неустанно занимаются переоценкой ценностей. Но их легко узнать: они заваливают рынок своей продукцией и обычно со временем сами тонут в своем дерьме. Тот, кто хочет выжить, должен уйти в свое убежище, подальше, повыше. Воздух там разреженный, но я к нему привык. Давно наступило равновесие, так или иначе — мне все равно. Что ценнее — форма или содержание? В конце концов, все бессмысленно. Я всех выслушиваю и никого не слушаюсь. Я давно стал «дикарем», одиночкой, до сих пор продолжаю экспериментировать, и сам не знаю, что у меня выйдет, и это самое увлекательное. Больше я уже не задаю себе вопрос: в чем смысл слова, от этого все становится еще непонятнее. Жизнь сама по себе, существование само по себе — все это общее место. И если мы, как я теперь, возвращаемся к своим воспоминаниям, все выясняется само собой. Всю жизнь мы живем рядом с людьми, которые не имеют о нас ни малейшего представления, но постоянно твердят, что знают о нас абсолютно все, хотя даже наши близкие родственники, наши друзья ничего о нас не знают, потому что мы сами себя мало знаем. Всю жизнь мы стараемся познать себя и всегда доходим до какого-то предела понимания, и дальше нам пути нет. Сколько ни старайся, все твои попытки кончаются полным затмением, роковой, убийственной депрессией. То, что мы сами о себе никогда не решимся утверждать, считая, что понять мы все равно ничего не можем, другие решаются ставить нам в упрек, нарочно или нечаянно, пренебрегая всем, что в нас есть и чего в нас нет и не было. Люди постоянно отшвыривают друг друга, и, что ни день, приходится каждый раз заново сходиться, смыкаться, объединяться. Чем старше становишься, тем резче судишь о людях, да и тебе от них приходится терпеть вдвое больше. Все отношения строятся настолько неумело, что со временем приходишь к полному равнодушию. После бесконечных обид, при такой ранимости, мы с годами становимся почти неуязвимыми, безобидчивыми, и хотя мы обиды не пропускаем, но переживаем ее уже не так остро, чувствуем не так сильно. Теперь мы и сами наносим удары покрепче, но и выдерживаем удары куда более крепкие. Жизнь говорит с нами обо всем короче и уничижительнее. Мы и сами теперь тоже говорим резче обо всем, мы уже не так сентиментальны, оттого у нас нет и никаких надежд. От этой безнадежности мы стали видеть все яснее — людей, вещи, отношения, прошлое, будущее и так далее. Мы уже достигли возраста, когда сами стали доказательством того, что нам пришлось пережить. Что же касается меня, то я прошел три испытания — все испытания моего деда, испытания тех окружающих, с которыми я был не так близок, и, наконец, то, что мне пришлось испытать самому. Поэтому я был мало предрасположен обращать внимание на всякие мелочи жизни. Не буду скрывать, что я всегда вел как бы двойную жизнь, одну — ближе всего к реальной жизни, а другая моя жизнь была игрой, фантазией, и обе эти жизни создавали для меня вполне приемлемое существование, то одна, то другая брала верх, но я ощущал, что обе они — мои, всегда во мне. Так и живу. И, если бы я реально не пережил все, что со мной случилось, я, наверно, сам создал бы для себя что-то похожее и пришел бы к тому же состоянию, что и сейчас. Каждый день, каждую минуту всё — и тяжелые заболевания, а позже и смертельный недуг, — всё заставляло меня сопротивляться, сбрасывало с воздушных высот на твердую землю, учило стойкости и равнодушию. Я и сейчас держусь достаточно стойко, хотя и знаю, как неустойчиво все на свете, знаю, что руки у меня пустые, что все вокруг только наваждение, и, хотя ты ему все время поддаешься, потому что существуешь, мне теперь все довольно безразлично, хотя я, при вечном проигрыше, выиграл по крайней мере последнюю партию. Тех иллюзий, какие питал мой дед, у меня тоже не было, тех ошибок, какие он совершал, я не делал. Вообще все на свете совсем не так важно, как ему казалось, и никаких особых ценностей, перед которыми он робел, тоже нет, а всякие пышные фразы и высокие словеса я воспринимал в истинной их сути — в их недостоверности, понимая, что верить им нельзя. Ни та нищета, в которую впал дед, отравлявшая ему жизнь, меня ни в чем не убедила, ни тем более не убедила его мечта о богатстве. Тот путь, по которому я шел, был уже пройден им, моим дедом, и для меня это было и есть большое преимущество, потому что я мог глубже вникнуть во все. Плоские афоризмы и фразы о «нищем богаче» и «богатом бедняке» я для себя издавна заменил новым, тоже пошловатым определением «глупый умник». Человек, всю жизнь игравший какую-то роль в воображаемом театре, в минуту отчаяния мог бы все прикончить, разрушить весь реквизит, сломать декорации, убить актеров, только сил у него не хватало. Мой дед ненавидел оперу и обожал драму, но и оперу не стоит ненавидеть, и драмой восторгаться нечего, так же как не стоит ни восторгаться людьми, ни ненавидеть их. Почти на всех людей любовь и ненависть действуют разрушительно, и моего деда всю его жизнь, то есть шестьдесят восемь лет, ломали и калечили эти чувства. Любому человеку, кроме меня, он мог бы указать путь в жизни, но я никогда не искал пути. Я никогда не шел по определенной дороге, потому что всегда боялся, что ей не будет конца, а значит, бессмысленно идти по ней. Захочешь — пойдешь по ней, говорил я себе. Но не шел. До сих пор. Что-то происходило, я стал старше, на месте не стоял, но и по прямой дороге не шел. Я говорю на своем языке; кроме меня, его никто не понимает, да и у каждого есть свой язык, только он сам его понимает, а тот, кто думает, что он всех понимает, — тот дурак или шарлатан. Говоришь всерьез, а тебя часто не понимают или понимают не так, да и нет такого рецепта, как определить, что такое истинный, высокий ум. И каждый человек, все равно кто, все равно чем он занимается, обречен на одиночество, предоставлен сам себе. Если бы я зависел от других людей, я бы вообще не мог существовать, и каждый вновь наступающий день этому доказательство. Мне иногда кажется, что я иду сквозь собственные мысли, как сквозь строй. И я себя спрашиваю: что я такое — рабочий винтик или жертва беспощадной машины, которая в бешеном вращении дробит и размалывает все существования? Но ответа нет. Мой характер — сплав всех характеров, мои желания те же, что и у всех людей, мои надежды, разочарования, потрясения тоже как у всех. Только притворство спасает меня иногда, а в другой раз, наоборот, полная откровенность. Мы ищем прибежище, укрытие и не знаем, куда деваться. Хочешь куда — то скрыться, и со стороны видно — человек бежит неизвестно от чего, неизвестно куда, хотя он просто бежит от всего, из всего. С первой же секунды, только появившись на свет, человек бежит из жизни; он в нее вошел, осознал ее, а бежит он в смерть, хотя ничего о ней не знает. Всю жизнь мы упорно несемся прямо к концу. Для меня уже с четырех, с пяти, с шести лет жизнь навсегда стала каким-то спектаклем, я видел сотни тысяч влюбленных в нее лицедеев, после премьеры спектакли становились все искуснее, реквизит менялся, актеров, не понявших свою роль в данной пьесе, выгоняли вон, и так оно шло бесконечно. И все актеры — я сам, весь реквизит — это я, и режиссер тоже я сам. А зритель? Но ведь мы можем беспредельно раздвигать кулисы или сдвигать их до щелки, в которую только мы сами можем мысленно заглядывать. И как славно, что мы на все умели смотреть с иронией, хотя и принимали всерьез. Мы — это я. Мы отбросили все предрассудки, чтобы снова восстановить их, расширить, и эту роскошь мы могли себе позволить. Мы понимаем, что подразумевают люди, говоря о высокомерии, заносчивости, надменности. И это правда, что говорят люди, потому что правда все, и не стоит раскаиваться, ибо за все — и за вину, и за стыд — нам приходится платить. Все, что нам предсказывали, не сбылось. Все, чем нас одурачивали, давно оказалось враньем. Мы были одержимы всякими идеями, поддавались всяким безумствам, сумасбродствам и расплачивались за них. А до чего мы дошли бы, если бы слушались наших так называемых близких людей? Только идя им наперекор, мы смогли создать себе какую-то, может быть, и смехотворную, но вполне сносную жизнь. И даже если все это — сплошной мираж, он стоил того. Иногда мы утверждаем, что все — трагедия, иногда, наоборот, говорим: какая комедия, а сами не понимаем, что оно такое сейчас — трагедия или комедия. Правда, действующие лица всегда уверены в бессмысленности и моей трагедии, и моей комедии. А действующие лица всегда правы. Когда мы говорим: выходите слева, то для них это выход справа, и наоборот, но они этого не замечают, и в нашей пьесе от них ускользает самое главное. Они не понимают, во что мы играем. Да я и сам не понимаю во что. А какой смысл, например, при игре в карты подсматривать, какая карта у сумасшедшего? Даже если он утверждает, что он вовсе не сумасшедший. Ребенок всегда режиссер, я рано стал режиссировать. Сначала поставил сплошную трагедию, потом комедию, потом снова трагедию, а потом все смешалось, и уже непонятно было, что это такое — трагедия или комедия. А зрителей это сбивает с толку. Они не аплодировали, а теперь раскаиваются. Они молчали, презирали меня, а теперь раскаиваются. Мы хотели бы знать заранее, нужно аплодировать или не нужно. Нельзя предвидеть, что у нас будет на душе. Мы — всё, и мы же — ничто. И между этими крайностями мы безусловно раньше или позже погибаем. Все остальные утверждения — просто чушь, глупость. Мы в полном смысле слова произошли от театра. Мир по своей природе — театр. И люди в этом мире — только актеры, от которых, в общем, многого ждать не стоит. Как-то раз, года три-четыре тому назад у так называемого Большого моста перед ратушей, где рядом до сих пор находится знаменитая зонтичная мастерская, а около не менее знаменитый ювелирный магазин, меня окликнул мужской голос, я обернулся и увидел, что, прислонясь к только что выключенному пневматическому молоту, стоит человек лет пятидесяти, без рубахи, его голый живот свисает складкой над поясом синих рабочих штанов, и сам он потный, совершенно беззубый и почти лысый, по острому, пронзительному взгляду я сразу угадал в нем горького пьяницу; рядом с ним работал, как видно, его ровесник, но совсем другой с виду — очень высокий, худой, в грязноватой суконной кепке, он сгребал в кучу осколки камней, выбитых молотом толстяка из мостовой; очевидно, они при перестройке моста открывали газо — и водопроводные трубы; я стал пристальнее вглядываться в лицо толстяка, он меня, очевидно, узнал, а я его — нет; я остановился в толпе прохожих, но никак не мог вспомнить, кто это такой, тогда как он явно помнил меня отлично, но я даже сообразить не мог, откуда я его знаю. С другой стороны, мне было ясно: когда-то я видел это лицо, но, вероятно, это было очень давно, подумал я, и еще подумал — нет, он не ошибся. Тут он сам меня опередил: да я же столько раз наливал ему для матери ром в бутылку, тогда, в подвале, у господина Карла Подлахи, в Шерцхаузерфельде, это ему я как-то достал бинт из шкафа и перевязал голову, которую он ушиб на нашей лестнице. Этого случая я не помнил, но того парня, каким он был лет двадцать пять тому назад, я вспомнил сразу. А я будто бы тогда был совсем коротышкой, меня даже из-за прилавка почти видно не было. Тут он, конечно, сильно передергивал, но, в общем, все помнил хорошо. Казалось, что он охотно вспоминает то время, свою молодость, да и я в эту минуту неожиданно тоже не без удовольствия стал припоминать то время, и мы молча, без слов, оба вспомнили нашу юность. Он ничего не знал обо мне, я ничего не знал о нем, но среди всей толпы, в утренней сутолоке у моста, мы оба вдруг установили, что наша юность прошла рядом, в Шерцхаузерфельде, и что мы оба выжили, каждый по-своему. И что мы, опять-таки каждый по-своему, с трудом прожили эти годы и стали на двадцать пять лет старше. Много лет я не вспоминал о Шерцхаузерфельде, и он напомнил мне об этом позорном пятне на совести нашего города, который из этих трущоб звал и пускал к себе людей только для черной работы. И до сих пор, подумал я, жители Шерцхаузерфельда делают только самую грязную работу в городе, а толпы горожан проходят мимо и ничего не замечают. Что сталось с самим Подлахой, где он теперь, спросил он, но я сам об этом ничего не знал. А как Герберт, хотел он знать, как там Карл; я сказал, что Герберт стал самостоятельным человеком, открыл собственную кофейню на Эрнест-Тун-штрассе, а Карл сначала служил в иностранном легионе, но вот уже много лет как вернулся. Несколько раз он попадал в тюрьму — я об этом узнал от женщины, жившей над нашей лавкой. А про себя этот человек мне напомнил, что круглый год, летом и зимой, он ходил босиком. Этого я не помнил. Но, когда он сказал, что в трудные минуты иногда помогал мне при разгрузке мешков с картошкой, я его сразу вспомнил: он часто ходил на спортплощадку один, выводил собаку своего дяди, иногда играл с ней часами, бросал ей палочки, забавлялся. Он перечислил несколько фамилий, все эти люди были мне знакомы — каждый день к ним то обращались в лавке, то просто окликали, но уже двадцать пять лет я этих фамилий не слыхал. Он расссказал, что многие померли, кто своей смертью, а кто нет. У него самого сестра связалась с американцем, уехала с ним в Нью-Йорк и там пропала ни за грош. Помню ли я его сестру — писаную красавицу? А Подлахи он побаивался, тот его раз поймал — он стащил пару яблок. Да он не только яблоки крал, сказал он. Нынешняя молодежь и понятия не имеет, до чего тогда была трудная жизнь. Говори им сколько хочешь про войну, про послевоенное время, про нацистов, про американцев, про весь тот ад — все равно ни черта не понимают. Он годами носил матери ром из нашего подвала, подавал ей прямо в кровать, она уже не могла встать, так и погибла. Но сердце у нее было такое здоровое, что она целый год болела раком, исхудала как скелет, а все жила, хотя уже ничего не могла есть, кроме булки — смочит булку ромом и ромом запьет. Она была верующей, но никогда в жизни в церковь не ходила. Очень была богобоязненная, но не католичка. Потом он спросил, чем я теперь занимаюсь. Пишу, сказал я, но ему это ничего не говорило, видно, он так и не понял, что я делаю, но вопросов больше не задавал. Нет ли у меня сигаретки, спросил он. Я сказал, что не курю. Подлаху он всегда уважал, правда, он его и побаивался, но уважал всегда, потому что тот хорошо умел вести дела. Венцы вообще умники. Но, как все провинциалы, он все-таки презирал этих венцев. В определенном смысле, конечно, добавил он, он не объяснил, в каком именно; впрочем, никакого смысла, очевидно, и не было, а своей жизнью он был доволен, хоть она и дерьмовая. В его возрасте ко всему относишься равнодушно, хотя и цепляешься за жизнь, но скоро ли придет ей конец — тоже все едино. Все едино, вот в чем суть. С возрастом все едино. Все едино. Мне в эту пору тоже все было безразлично. Все едино. Какое прекрасное, какое ясное, короткое, выразительное слово: едино. Мы друг друга поняли. Он сказал: пойдем перекусим, и я повернул с ним за угол, мы зашли в городской сад в пивную, взяли пива, колбасы с хлебом. Свою жизнь он раньше представлял себе по-другому, думал — жить будем иначе, сказал он, не этими словами, но смысл его слов был такой. И я тоже так думал. Тут мы снова вернулись к Шерцхаузерфельду, снова воскресили Карла Подлаху. Многое нам припомнилось. Привет и Все едино — сказал он на прощание, и словно я сам выговорил эти слова. Теперь главное во мне — это полное равнодушие ко всему, равнозначность всего того, что было, что есть и что еще будет. Нет никаких высоких, высших и наивысших ценностей, это все давно изжито. Люди такие, как они есть, их не изменить, как и то, что людьми делалось, делается и будет делаться. Природа не знает шкалы ценностей. Всегда люди останутся людьми, со всеми своими слабостями, со своей каждодневной телесной и душевной грязью. Все равно, отчего приходишь в отчаяние — работая у пневматического молота или у своей пишущей машинки. Только всякие теории затемняют то, что так предельно ясно, только все эти философии, науки, со своими ни к чему не пригодными открытиями, становятся поперек дороги всякому ясному пониманию. Почти все, что нас ожидает, давно пройдено, нас ничем не удивить, все возможности уже предугаданы. Тот, кто наделал столько ошибок и злился, и мешал, и разрушал, и уничтожал, и мучился, и учился, и часто обрывал все, доходил почти до самоубийства, и заблуждался, и стеснялся, а потом переставал стесняться, — тот и всегда будет ошибаться, и мешать, и разрушать, и доходить чуть ли не до самоубийства — словом, все будет повторяться до самого конца. А в конце концов — все едино. Постепенно открываются все карты. Была такая мысль — разобраться в своей жизни, в жизни других. Мы себя узнаем в каждом человеке, кем бы он ни был, и, пока мы существуем, мы обречены делить судьбу каждого человека. Мы существуем во всех судьбах, со всеми людьми делим их судьбу, и мы ищем себя во всем и не можем найти, как бы мы ни старались. Мы мечтали о прямоте и ясности, но все это так и осталось в мечтах. Как часто мы сдавались и снова начинали поиски, и мы еще много раз будем сдаваться и снова искать. Но вообще все едино. Тот человек, у пневматического молота, подсказал мне это ключевое слово: в конце концов все едино… И в природе вещей главное именно то, что все едино. До сих пор я слышу, как он сказал: «Привет», а потом: «Все едино», хотя я сам часто говорил «привет» и «все едино»… Но мне надо было услышать эти слова именно тогда. Я уже позабыл их. Но мы все одинаковы приговорены к этой жизни, это и значит «осуждены пожизненно», а за какую вину — неизвестно; может, мы и без вины виноватые, а может быть, провинимся мы, а за нас потом пострадают другие. Не по своей воле появились мы на свет, но вдруг началась наша жизнь, и всю ответственность сразу возложили на нас. Но мы научились сопротивляться, теперь нас ничто не собьет с ног, за жизнь мы не цепляемся; тут я хотел было добавить, что дешево разбазаривать ее мы тоже не станем, но потом подумал: не стоит говорить. С каждым так бывает — вдруг вскинешь голову, решишь: сейчас скажу всю правду или то, что мне кажется правдой, а потом опустишь голову и промолчишь. Вот и все.
Похожие книги на "Все во мне", Томас Бернхард
Томас Бернхард читать все книги автора по порядку
Томас Бернхард - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mybooks.club.




