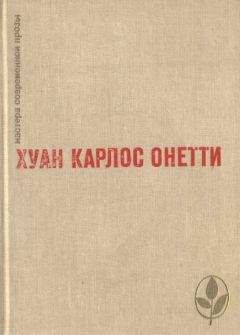Едва Кека предложила поехать в Монтевидео, я отошел от Арсе, перестал отвечать за мысли его и дела; однако меня непрестанно мучил соблазн — я хотел увидеть, как он сползает к полному цинизму, в неодолимые низины, из которых должен восстать, чтобы действовать от моего имени. Приглашение помогло распознать и уже давно созревшее желание, которое я столько раз подавлял и гнал от себя, — увидеть свою жену в Ракели, снова обрести самую ее суть в этой хилой девочке, которая была глупее той, прежней Гертруды, своей ровесницы, и холоднее (она пошла в отца), а все-таки сейчас, в этом году, стала истинной ее сестрой.
Посасывая пустую трубку, старый Маклеод шепнул Штейну, что уволит меня к концу месяца, вручив чек на пять тысяч. А пока что я почти не работал и едва ли существовал. Напиваясь с Кекой, наслаждаясь все больше тем, что я могу ее ударить, и удивляясь, что это очень легко, даже нужно, я был Арсе. Думая, пытаясь писать, поражаясь своей силе и богатству жизни, я был врачом по имени Диас Грей. Теперь великодушный приятель приходил к Кеке по субботам, а я, не в силах слушать тишину за стеной, позволявшую вообразить что угодно, уходил из дому, покупал дешевый цветочек, не обращая внимания на то, какой у меня с ним дурацкий вид, и ехал через весь город к Мами, немного морщась от того, что Штейн без пиджака, снисходительно и благодушно, как хозяин, ублажает старую гвардию, сидевшую там во всей славе старых ран и былой доблести.
Я поздоровался с Мами и с бессмертными барышнями. Кроме них, тут был тщедушный лысый еврей в золотых очках, быть может, тот самый Левуар, с которым наша хозяйка играла в карты и путешествовала по Парижу. Штейн прохаживался по комнате, расхристанный, с бокалом в руке, шутил с гостями, нарушая — уж не нарочно ли? — уют, который так умело и терпеливо создавала Мами, от субботы к субботе. А ведь дамы эти, подумал я, тона их одежды, звук их голоса и сама хозяйка, и молчаливый человечек удивительно гармонируют с букетами, которые Мами расставляет в гостиной. Впрочем, в том же вкусе и цветы в горшках, стоящие на столе, на пианино и на полу.
Так я и томился, размышляя о том, что будет, когда меня вышвырнут со службы, и о Кеке, и об Арсе, и о тихом старичке, и о потолстевшей Ракели, и о молодой Гертруде. Мами согласилась, чтобы открыли окно в ночную прохладу, чтобы Штейн зажег лампу, и наконец, часто мигая то мне, то старичку, отложила вязанье и направилась к пианино. На ходу она грузно колыхалась и поправляла пояс. Проходя мимо нас, она милостиво улыбнулась, похлопала Штейна по щеке, игриво взглянула на меня, что-то прошептала, склонившись к Лине Маузер. Потом распрямилась, поднявшись над нашим смехом, и подарила пианино другую улыбку, такую же печальную, но ослепительную, говорившую о том, что снисхождение теперь обращено не к нам, а к ней самой. Она подождала немного, опустив голову в самую гущу роз и тубероз.
— Ту, что пели партизаны! — крикнула Змейка.
— Ну что ты… — сказала Мами, не шелохнувшись, почти не меняя покорного выражения, с каким она ждала, к чему приведет ее молчаливый вызов.
Штейн зашел сзади за кресло бессмертной Елены и положил ей руку на голову.
— Пусть Мами поет, что хочет, — сказал он, поднял прядь Елениных волос и обмотал ее вокруг бокала. — Первая и последняя песня у нее всегда про бога.
— Нет, про любовь, — захныкала Змейка. — Старинные, как бабушка пела.
— И я пела, и я… — ласково сказала Мами и обратила ко мне новую улыбку, потусклей и посмиренней. — Не будете ли вы так любезны, — прокудахтала она старичку.
— Прошу вас, — улыбнулся он и отогнал муху. — Да я вам не нужен, поверьте.
— Мы такие друзья, — возразил Штейн, передразнивая Мами, — мы такие товарищи, что можем без всякой злобы препираться целый день.
— Я бы хотел услышать то, что вы пели у Эстер, — сказал старичок. — Не помните? — И он стал напевать, раскачиваясь всем тельцем.
— А! — вспомнила Мами, замигала, и подбородки ее пошли складками. — «Une autre fois».[16] Но ведь это не песенка…
— Нет, дорогая, он прав, — сказал Штейн, целуя в затылок бессмертную Елену. — Прелесть!
— Вы тоже так думаете? — спросил старичок с улыбкой, однако избегая чрезмерной сердечности.
— Да, Хулио, она очень красива, — любезно и упрямо сказала Мириам. — Но это не chanson.[17]
— Ну ясно! — вскричала Змейка. — Для нашей Мами если не печальное, так и не chanson.
— И для меня, милочка, — сказала Лина с душераздирающей улыбкой. — То, чего не забудешь, всегда печально.
— Мы ждем, — сказал Штейн. — Дамы и господа, сколько можно?..
Мами прервала его, помахав рукой, словно веером. Глаза она прикрыла, старое лицо содрогалось в экстазе. Из невыносимого аромата цветов, из погруженного в прошлое сердца к ней приходили слова, которые она должна спеть.
— Ну, тогда «Si petite»,[18] — решила Змейка. — Это в твоем вкусе. Такая печальная.
— Да, она нежная, — сказала Мами. — Только лучше вы не гадайте. Никто и знать не может, что я спою и почему.
— Мами, он меня кусает, — заверещала Елена Прекрасная. — Ах, злодей!
Тогда Мами улыбнулась снисходительно, как и следует улыбаться доброй, взрослой женщине, которая именно по доброте играет с детьми, оглядела нас, остановилась на старичке, выбивавшем пальцами на колене «Une autre fois». И вдруг, словно выслушав вступление, мягко откинула голову и начала петь, словно окунулась в сдержанную скорбь, в мертвый мир любви. Отвратя от нас пухлое, детское лицо, уйдя далеко отсюда и все же ублажая нынешних людей, троих мужчин и трех блудниц, издававших задумчиво-горестные возгласы под звуки старой chanson, Мами воскресила девочку, сбежавшую из славного Парижа тридцать лет назад, чтобы выучить язык и душу еще одного народа через унылых завсегдатаев Росарио, Сан-Фернандо, Матадерос и дешевых кабаре. Там встретила она своего Штейна, и взяла с собой, и с горестным и сладостным чувством погрузилась в прошлое, как погружалась сейчас, стоя у пианино и улыбаясь застывшей, печальной, счастливой и дерзкой улыбкой. Повторяя свою chanson и принимая прежние позы, она питала это прошлое, облекала его плотью.
Быть может, слушая Мами, мы этого не понимали; быть может, кто-то что-то ощутил из жалости или от смущения. Но все пять долгих минут, пока она пела, замолкая порой, чтобы сыграл свое несуществующий оркестр, перед нами была женщина, сбросившая тучность, годы и беды и обретшая уверенность в себе, которую дарует упругая кожа, и дерзкую жертвенность, и беззаботность тех, кто наслаждается разделенной любовью.
Я глядел на нее недоверчиво и взволнованно. Она опиралась локтем о крышку пианино; левая рука, изогнувшись, повторяла форму бедра.
Томно и твердо она вызывала голос из глубин отрешенной, ушедшей в прошлое памяти и пела скорбно и блаженно:
Reviens, veux-tu?
Ton absence a brisé ma vie.
Aucune femme, vois tu,
N’a jamais pris ta place dans mon coeur, amie,
Reviens, veux-tu?
Car ma souffrance est infinie
Je veux retrouver tout mon bonheur perdu.
Reviens, reviens, veux-tu?[19]
Не возвращаясь к нам, она начала другую песню. Щеки у нее были мокрые и красные, и одна из наших дам прошептала: «Она себя убьет!» Тогда Штейн, оставив Елену, жадно поцеловал свою Мами в шею и, не отпуская ее, весело сказал:
— Девочки, знаете игру? Конечно, лучше играть ночью и напившись; однако сейчас с нами два достойнейших джентльмена. В игре этой проявляются все качества, которыми гордятся мужчины. Нет, не только пять чувств, но и ловкость, и фантазия, и логическое мышление. Правила просты, хотя и суровы. Другой такой игры нет, если можно положиться на честность участников. Выбираем какую-нибудь вещь, которую все знают, лучше — небольшую, само собой. Назначаем, кто будет искать, он выходит, вещь мы прячем, он возвращается. Он знает, с какой буквы начинается название места, где эта вещь спрятана. Искать можно везде, исключения нет. Мебель, человек, любой предмет, одушевленный и неодушевленный, лишь бы название начиналось с нужной буквы.
Девочки играть не хотели — они смотрели на свою неподвижную подругу, она улыбалась, у нее были слезы на глазах. Старичок покачал головой. Штейн опять поцеловал Мами в шею.
— Не хотят со мной играть, — пожаловался он. — Мами, дорогая, ты плачешь?
— Нет, ничего, — пробормотала она, мягко от него отстраняясь. — Я никуда не гожусь, Хулио. — Она улыбнулась старичку. — Простите меня…
— Ради бога, сеньора!..
— Могу поручиться, — сказал Штейн, — наш друг размышляет, на скольких языках сыграл бы он в мою игру.
Старичок засмеялся, раскачиваясь в кресле и обхватив руками колени. Когда он умолк, Мами вздохнула и проговорила, надув свой кругленький ротик:
— Не согласитесь ли, сеньор…
Потом подошла к пианино и открыла крышку. Старичок пересел на табурет, размял руки и нажал на две клавиши безымянными пальцами.