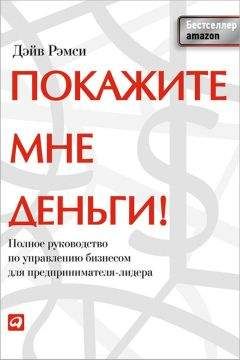А Тина пела. Ее вдохновлял собственный голос. Она будто снова вдыхала запах старого пыльного занавеса и мокрых досок вымытого перед концертом пола, тело ее снова стало молодым и сильным, как в студенческие годы, и голос несся ввысь, к потолку институтского зала, где еще со сталинских времен красовалась огромная, бронзовая, переливающаяся хрустальными подвесками люстра. Латинские слова выстраивались в памяти в нужном порядке, и Тина произносила их легко и с нежностью, будто лелеяла языком каждое слово, каждую ноту, каждый пассаж.
А в зале, между тем, началось оживление. Все присутствующие, кроме Азарцева и специально сдерживающей себя Юлии, стали вытягивать шеи, чтобы лучше разглядеть угощение. У аккомпаниатора громко заурчало в животе, а медсестра, поклонница Тины, вдыхая тоненьким носиком аппетитные запахи, думала, что ей очень повезло, что ее дежурство как раз пришлось на день концерта. Юлия, предвкушавшая угощение совсем другого рода, с нетерпением ждала, что будет дальше.
Одна из дам тем временем решила, что с классикой надо кончать. В конце концов, происходящее можно было бы определить рамками другого жанра. Кажется, в варьете как раз одновременно наслаждаются искусством и едой. Но все-таки дама вопросительно взглянула на Юлию и указала пальцем в сторону стола с закусками.
«Конечно, конечно, все для удовольствия пациентов!» – сделала та приглашающий жест рукой. Дама тут же, больше не обращая на пение никакого внимания, шумно трепеща полами своего капронового халата, подошла к столу и, наклонившись над ним, как аист над лягушкой, картинно вытянула двумя пальцами самый большой бутерброд с осетриной и, уронив с него оливку, стала, смешно наклонив голову, запихивать его в действительно плохо открывающийся рот. Вторая дама с громким шепотом: «Сейчас наступишь, испортишь ковер!» сползла с кресла вниз и стала, шумно кряхтя, разыскивать оливку. Юлия снисходительно улыбнулась. Тогда со своих мест одновременно поднялись шоумен и девчонка с перевязанной грудью и тоже устремились к столу. Девчонка ухватила бутерброд с черной икрой, а шоумен зазвенел бутылкой. Вторая дама поискала глазами, куда бы выкинуть оливку, и, уронив ее еще раз, снова, чертыхаясь, полезла под стул. Молоденькая медсестра, не успевшая перекусить с утра, чувствовала симпатию к Тине, но искушение оказалось сильнее. Увидев, с какой скоростью исчезает с тарелок все самое вкусное, она решила: «Эх, была не была! Валентина Николаевна меня простит!» – и тоже тихонько устремилась к столу. Азарцев с ужасом смотрел на происходящее, на жующих гостей, на поющую с закрытыми глазами Тину.
«Что же теперь будет?» – подумал он.
Разведя руками, мол, ничего не поделаешь, желание пациентов закон, последней со своего места медленно встала Юля.
– Концерт, по-видимому, окончен. Налей мне выпить! – сказала она Азарцеву, со значением глядя ему в глаза. Тот только махнул на нее и с негодованием отошел в сторону. А от рояля за происходящим с усмешкой наблюдал аккомпаниатор, которому, несмотря ни на что, понравилось Тинино пение.
«Училась, наверное, где-нибудь, – думал он. – В самодеятельности так не поют. Но эти-то какие скоты!» – Он скрестил на груди руки и презрительно смотрел, как происходит разграбление стола. Шоумен больше пил, чем ел, а незрячая китаянка довольно ловко накладывала себе на тарелку салат из крабов.
– Хорошо, что в консерватории буфет отдельно, а зрительный зал отдельно! – сказал он Азарцеву.
Тина, погруженная в себя, все выводила свои пассажи. Дамы в повязках уплетали за обе щеки. Шоумен, запутавшись в своем шарфе, неловко повернулся и толкнул локтем девчонку с прооперированной грудью. Та взвизгнула, скорее от страха, чем от боли. Китаянка выронила тарелку. Одна из дам громко ахнула. Юлия громко хлопнула в ладоши, призывая медсестру. И тут наконец Тина, закончив мелодию, открыла глаза и застыла в молчании.
Вокруг нее нарастал шум голосов. Хихикая и изгибаясь телами, чтобы удобнее было проталкивать пишу, ее бывшие пациенты, совершенно забыв и о концерте, и о ее пении, веселились, выкрикивая, чтобы перекричать друг друга, глупые, пошлые остроты… Их лица и тела в разнообразных повязках напоминали ей странных, уродливых персонажей какого-то фантастического карнавала. Птицы в клетке горланили и метались. Один попугайчик, наклонив головку, с ужасом глядел круглым желтым глазом, как подвыпившая дама делает ему двумя пальцами козу. Шоумен размахивал своим шарфом, как бородой, и пытался пощекотать девчонку с перевязанной грудью. Китаянка быстро ела. А чуть вдалеке, позади стола, стояла с бокалом в руках Юлия и с издевательской улыбкой смотрела на Тину. Тина поискала глазами Азарцева – он разговаривал с аккомпаниатором, подведя того к столу, и губы у него шевелились безвольно и неслышно.
– Скоты! – громко крикнула Тина в зал. – Какие же вы скоты!
Несмотря на хохот, ее слова были услышаны, и воцарилось молчание. Азарцев оставил аккомпаниатора и пошел к ней.
– Уйдем отсюда! – Он взял ее за руку. Но ею уже нельзя было управлять. Ярость захлестнула ее. Она еще никогда не знала такого унижения. Бешенство поднялось от груди к горлу и стало рваться наружу.
– И ты такой же, как все! Ты специально все это подстроил!
Она размахнулась, не помня себя, и звук пощечины будто выстрелил на всю комнату.
Юля про себя с удовлетворением хмыкнула. Она сделала знак охраннику, тот кликнул на помощь второго, и они, подхватив Тину с обеих сторон и приподняв над полом, быстро потащили ее по лестнице вверх. Бледный Азарцев поднимался за ними.
– Прошу вас не обращать внимания на этот досадный инцидент, – извиняющимся голосом, но так, что было видно, что она не хочет иметь к происшествию никакого отношения, произнесла Юлия. – Доктор, по-видимому, переутомилась, к тому же давно не выступала… В общем, дамы и господа, прошу вас продолжать веселиться!
– Ничего себе, у вас доктора! – как бы шутя произнес шоумен, а сам подумал, что завтра же вызовет юриста со студии, для того чтобы тот ему подсказал, как грамотно составить иск о причинении ему морального ущерба за то, что они привлекают к работе докторов с неустойчивой психикой. – А если бы во время операции со мной что-нибудь случилось бы? – в присутствии юриста наутро задал он свой вопрос Азарцеву. – Где гарантия, что эта истеричка нашла бы правильное и быстрое медицинское решение?
Азарцеву потребовалось немало сил, чтобы найти компромиссное решение. Порядочно потрепав Азарцеву нервы, шоумен наконец согласился не подавать иска в суд, если ему вернут потраченные на операцию деньги.
– Вот та сумма, в которую обошлись нам претензии телезвезды, – предъявила Азарцеву через несколько дней счет Юлия. – Будем продолжать устраивать концерты?
– Я оплачу убытки, не рассказывай об этом Лысой Голове. – Азарцеву было и неловко, и стыдно, и грустно за свою наивность. И еще он все-таки злился на Тину. Ну неужели нельзя было перевести все в шутку и потом обсудить с ним наедине этот неудачный концерт?
– Так уж и быть, знай мою широкую душу. – Юля похлопала его по плечу. – Впрочем, я думаю, что ты и сам перестал быть любителем вокала.
Азарцев ничего не сказал и только машинально потер ушибленную Тиной щеку. На левой скуле его расплылся довольно заметный синяк. Но что синяк! Синяк – это пустяки. А вот о Тининой истерике он вспоминал действительно с ужасом. Она кричала наверху, смеялась, рыдала, билась в его руках и никак не могла остановиться, пока дежурная медсестра не догадалась вкатить ей лошадиную дозу снотворного. После этого он смог ее, уже спящую, пока не видела занимавшая пациентов Юлия, погрузить в машину и отвезти домой. Вот этот самый концерт потом и мучил много раз Тину во сне.
Удивительно, но в ту ночь, когда подвыпивший Азарцев, как ребенок, с кулачком под щекой, спал у Юлии, он тоже видел во сне этот вечер. До финального исполнения «Аве Марии» его и Тинины сны по сути полностью совпадали. Только окончание было разным. Если Тина снова проживала во сне то же, что было и наяву: пощечину Азарцеву, издевательскую усмешку Юлии и невыносимые прикосновения к ее телу рук охранников, то Азарцев видел окончание сна по-другому. Ему казалось, что в заключительной сцене он выгоняет прочь из холла всех пациентов, Юлю и даже аккомпаниатора, выталкивает в шею охранников, выбрасывает в окно этот уже разоренный стол, гасит верхний свет, остается в зале с Тиной один на один, и в наступившей тишине они садятся рядом и смотрят на птиц. Птицы постепенно замолкают, успокаиваются, он закрывает клетку огромной темной шалью и обнимает Тину. Во сне он снова чувствует запах ее кожи, наполненный солнцем, этот запах одновременно и возбуждает, и умиротворяет его, они вместе клонятся на диван… Но диван проваливается, разверзается сияющая щель в полу, и вот они уже летят куда-то в свободный и прекрасный мир, где никого нет, кроме них двоих.