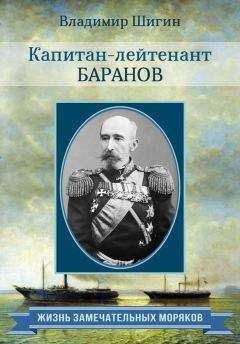“Что с ней?” – спросил однажды Гамлет. Ишхан ответил: “Я смирился и опять живу. А твоя мама не смирилась, и потому никак не может начать жить. Она не смирилась, и потому та жизнь ее не отпускает”.
Гамлет, подумав, твердо возразил: “Нет, все наоборот. Та жизнь ее не отпускает, держит, и из-за этого мама никак не может смириться. Чтобы смириться, ей нужна совсем другая жизнь”.
И он пустился хлопотать о переезде в Калифорнию на попечение диаспоры, благо Ишхан и Лива имели оба статус беженцев. Гамлет с Кариной беженцами не считались. Гамлет в подробных, долгих разговорах успокаивал отца: “Сначала вы переберетесь. Там обустроитесь и в океане накупаетесь, потом и мы уж к вам, уж как-нибудь, уж ты-то меня знаешь”. Лива в те разговоры не мешалась и даже не прислушивалась к ним, как если бы они ее и не касались, но наконец Америка дала добро, и глаза Ливы изменились. Они не упрекали больше никого и не отталкивали, но все же избегали других глаз. Они всегда теперь глядели с беспокойством куда-то мимо и поверх лиц и предметов, и это было беспокойство человека, который пробудился и сорвался с места, куда-то устремился и боится опоздать…
Узнав о том, что до отъезда – меньше полугода, Лива впала в панику: “Что делать? Мой английский – ноль!… У меня дома был французский, у меня в школе был французский, и в институте был опять французский, просто кошмар!”.
Увидев Ливу, шевелящую губами над учебником английского для средних школ, Ишхан заметил Гамлету: “Ты вдохнул в нее будущее”. “Вдохнул я или не вдохнул, – ответил строго Гамлет, – но ты бы тоже взялся за язык”.
И вот они уже вдвоем, Ишхан и Лива, с утра до вечера губами шевелили над учебником; даже пытались разговаривать друг с другом по-английски.
“Ай эм ё хазбент, – говорил Ишхан. – Хау а ю, май диар Лива?”. “Барев дзес, Ишхан мой”, – говорила Лива, потом спохватывалась, жмурилась в испуге, потом бросалась перелистывать учебник и, найдя нужную страницу, торопливо отвечала, как положено: – Ай эм ё вайф. Май лайф из вери хаппи”.
Английский не давался ей, она мало-помалу перестала шевелить доверчиво губами над раскрытыми страницами учебника, но лишь рассеянно их переворачивала. “Ах, поздно; ничего уже не сделать и не успеть”, – говорила она Ишхану. “Здесь не успеем – там, в Лос-Анджелесе, наверстаем, – подбадривал ее Ишхан. – Там он, как воздух; он там выучится сам собой”. Лива не верила, горько-насмешливо качала головой, больше к учебнику не прикасалась. “Он и не нужен тебе вовсе, – не сдаваясь, уверял ее Ишхан. – Можешь вообще не знать английского – просто живи, купайся в океане и говори со мной”. Лива, однако, заскучала и говорить с ним перестала, лишь иногда, словно вдруг вспомнив что-то важное, хватала его за руку: “Карине передай, я недовольна: она, по-моему, совсем рожать не собирается”.
Ишхан не передал.
Он, будто раздувая и вороша остатки теплых углей, пытался помешать ее глазам потухнуть, но вспоминать при ней о прошлых радостях Лива ему не позволяла, вслух предвкушать калифорнийское житье не соглашалась; Карину с Гамлетом воспринимала сухо; Ишхан не знал уже, что ему делать. Сказал ей как-то: “Лива, Лива, ты немножко приуныла; пойдем гулять куда-нибудь; сядем с тобой в любую электричку на платформе Лианозово, сойдем на станции, где много русского леса; мы из окна увидим, где его побольше, и сойдем”.
“Оставь меня, я спать хочу”, – сказала ему Лива и уснула; и однажды не проснулась.
…Ишхан прислушался: лес вдалеке скрипел, ныл и трещал ломающимися сучьями; кто-то, дороги в темноте не разобрав, пытался сквозь него продраться к берегу со стороны пансионата; глухие вскрики донеслись оттуда, как если б этот кто-то сослепу поранился о ветки.
Не стало Ливы, и Ишхан стал стар. Год он лечился, сам не зная от чего; ничем отдельным не болел, но из него, как из винного меха, прорванного по шву, вытекли силы. Он понял: это старость, и от нее не лечатся – к ней привыкают. Он и привык. Потом нанялся сторожем сюда, на лодочную станцию, – поближе к Гамлету, дела которого пошли вразнос. Гамлет их начал запускать, когда во имя Ливы всего себя настроил и нацелил на переезд в Америку. Как только переезд лишился смысла, Гамлет впервые в жизни сник, лишился компаньонов и клиентов, лишился всех опор и, увлекая за собой Карину, поплыл щепой, покуда не прибило его к Бухте, к Карпу. Теперь он вместе с Карпом жарит шашлыки и понемногу начинает думать и прикидывать, как снова встать на собственные ноги…
Едва подумав о мангале Гамлета, Ишхан услышал в себе нытье вины. Будь он, Ишхан, упорней и упрямей, растормоши он Ливу, силой вытащи ее на долгие прогулки по подмосковным рощам, она, как знать, и продержалась бы, она б успела улететь, и океан, пусть против ее воли, своим тугим дыханием вернул бы ее к жизни, а там, глядишь, и Гамлет бы приехал, ясный и сильный, как всегда, – расставил бы повсюду твердые опоры этой новой жизни…
Пора было утихнуть, совладать с собой; Ишхан привычно обратился к тому немногому, что в нем осталось от былого школьного учителя: он мысленно листал учебник химии, пока не выбрал формулу из тех, что подлиннее; мысль понемногу успокаивалась, степенно разворачивая формулу бензольного кольца, но не успел он то кольцо замкнуть, как был сбит с толку чьим-то топаньем по берегу. Два незнакомых темных силуэта, словно отлипнув от тьмы сосен, колеблясь и качаясь, приближались. И шли они не к пляжу, но шли прямо на него. Ступили, скрипнув досками, на лодочный причал и, подойдя вплотную и набухнув плотью, пахнущей водкой и подмышками, вдруг оказались парнем и девицей.
– Нельзя здесь быть, – буркнул Ишхан, не поднимаясь с досок.
– Но ты же здесь, – сказал парень.
– Мне положено.
– Лодки твои? – спросил парень.
Ишхан не ответил.
– Я б покаталась, – сказала жалобно девица. Голос ее был хрипл.
Парень потребовал:
– Дай лодку, дед.
– Нельзя, – сказал, тревожно раздражаясь, Ишхан. – Я не имею права.
– Да ладно тебе, кто узнает…
– Сейчас мой сменщик подойдет.
– Да ладно, дед, когда он подойдет!… Пока он подойдет, мы приплывем.
– Уже приплыли, – не сдержавшись, пробормотал Ишхан.
– Ты это что сейчас сказал? – спросил парень с ленивым удивлением.
– Я говорю: вы отдыхаете, ну, выпили немножко, вот и идите, дальше отдыхайте. А здесь – нельзя.
– Нет, ты скажи, ты что сейчас сказал?
Девица вдруг зевнула громко во весь рот и спрыгнула с причала на песок.
– Куда ты? – крикнул парень.
– Не хочет – ну и… с ним, – отозвалась девица. – Пойдем еще гулять.
– А ну, стой! – окликнул ее парень, не глядя на нее, словно знал точно: подчинится.
Она и подчинилась; вновь скрипнула доска причала под ее ногой.
– Я тебе, дед, еще раз говорю, – заговорил вновь парень, – мне нужна лодка.
– Я не могу, – сказал Ишхан.
– Мне нужно, дед.
– Не слушай его, дед, – встряла девица. – Ему без разницы: что лодка, что не лодка…
– Не лезь, – прикрикнул парень.
– Я и не лезу. Пойдем гулять, чего здесь без толку базарить; и холодно сейчас кататься…
– Не лезь, кому сказал!… Дед, не задерживай.
– Я вас и не задерживаю.
– Вадик, пошли, – захныкала девица. – Не порть мне настроение.
– Да в жопу настроение!
– В чью жопу настроение?
– В чью, чью! Твою!
– В мою?!
– Твою! Чье настроение, того и жопа!
Миг было тихо; и девица взорвалась:
– Ты сволочь! Сволочь! Сам ты настроение! Сам жопа, понял? Ты, сука, кто, чтоб привязаться? Ты кто такой, чтобы ко мне привязываться? Я бы спала сейчас, а не шаталась тут с таким!
– С каким?
– С таким! С таким! П…к! Собака! Чмо вонючее!
Ишхану показалось, ее жилы сейчас лопнут, и следом лопнут его жилы, не в силах вынести весь этот визг.
Парень пролаял:
– Что сказала?!
– То и сказала!
– Что ты сказала?!!
– Отъ…ись!
Ишхана захватило, зашатало звенящее, как детская юла, головокружение; ему почудилось, что нет под ним уже дощатого причала, что он повис над досками в прохладном и свободном воздухе и что его ничто уже не держит и не сможет удержать; с ясным и злым сознанием ненужности, непоправимости того, что он сейчас ей скажет, он ей сказал:
– Ай, девушка! Да как ты можешь так позволить разговаривать! Ай, ты не понимаешь, очень глупая ты дура, что тебя замуж не возьмут! Кому ты будешь с грязным ртом нужна? Только таким, чтобы пошляться вечерок, чтобы тебя и оплевать, и оскорбить по-всякому! Разве такой должна быть девушка?
Он словно издали услышал хриплый голос девицы: “Вадик, он что, чего он? Он чего сейчас несет? Скажи ему!”, но, на нее не глядя, обратив лицо к чернеющему гребню крон на темном небе, поторопился, утихая, досказать ей:
– Девушка тихой быть должна, она не гоготать – гы-гы! – должна и не орать с открытым ртом; она должна совсем немножко улыбаться, глядеть тихонько глазками из-под ресниц и снова прятать глазки под ресницами; она должна веселой, доброй быть, мыть голову и лишних слов не говорить, лишнего крику не шуметь и все в себе за всех переживать…