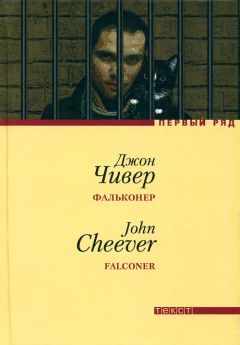Новая форма идеально вписывалась в атмосферу амнистии, которая воцарилась в Фальконере после подавления восстания в «Стене». Маршек снова подвесил цветочные горшки на проволоке, которую украл Фаррагат, и никто не спросил про заточенную клавишу от пишущей машинки. Когда раздали новую форму, многие захотели ее перешить. Почти все требовали, чтобы одежду сразу же подогнали под них. Но зеленые нитки привезли только через четыре дня и весь запас распродали за час, но Бампо и Теннис — оба умели шить — раздобыли одну катушку и целую неделю перешивали робы.
— Тук-тук-тук, — сказал Рогоносец.
Фаррагат разрешил ему войти, хотя всегда его недолюбливал. Но он устал от телевизора и хотел услышать живой человеческий голос, с кем-то поговорить. Лучше бы не с Рогоносцем, но выбора не было. Рогоносец попросил, чтобы его штаны сделали как можно уже, но, судя по всему, ничего хорошего из этого не вышло. Сзади они давили, точно седло гоночного велосипеда, а спереди впивались так, что Рогоносец морщился, когда садился. «Зря старался, красоты все равно не получилось», — со злостью подумал Фаррагат; впрочем, он всегда думал о Рогоносце с некоторой злостью. Рогоносец уселся, собираясь снова рассказывать о жене. Фаррагату пришло в голову, что у него невероятно раздутое самолюбие. Готовясь к очередному монологу, он словно становился больше и больше — буквально увеличивался в размерах, как показалось Фаррагату. Он представил, как Рогоносец, раздуваясь, сбросит со стола книгу Декарта, оттолкнет стол к решетке, вывернет из пола унитаз и разломает койку, на которой лежит Фаррагат. Он знал: то, что расскажет Рогоносец, будет омерзительно, но понятия не имел, как относиться к такой мерзости. Существование всей этой грязи было неоспоримо и нерушимо, однако свет, который проливал рассказ на все прочее, не соответствовал самой природе рассказа. Рогоносец заявил, что у него куча новостей, но изложенные им факты только запутали Фаррагата, ввергли его в еще большие сомнения и отчаяние. Но он подумал, что все это — черты его характера, а значит, их надо пестовать. В конце концов, суетливость и бессмысленный оптимизм достойны лишь презрения. Поэтому он не стал возмущаться, когда Рогоносец откашлялся и начал:
— Если б ты спросил меня, что я думаю о браке, я бы сказал: помни, что секс — не главное. Я женился на ней потому, что она здорово трахалась… ну… мы подходили друг другу по размеру, она вовремя кончала, и долгие годы все было о’кей. Но когда она начала спать со всеми подряд, я не знал, что делать. Священники ничего не могли посоветовать, а юристы говорили, что нужно подать на развод. А что тогда делать с детьми? Они не хотели, чтобы я их бросил, даже когда все узнали про мать. Она сама мне об этом говорила. Я возмущался, что она спит со всеми без разбора, а она прочитала мне целую лекцию о том, как тяжело ей приходится. Говорила про одиночество шлюх и их опасную жизнь. Говорила, что тут требуется мужество. Честное слово! Так и сказала. Мол, по фильмам и книжкам можно подумать, что это не жизнь, а рай, но на самом деле с какими только трудностями ей не приходилось сталкиваться. Рассказала, как один раз, когда я уехал по делам, она пошла в бар, а потом в ресторан с друзьями. У нас в Северной Дакоте правило: едят в одном месте, пьют — в другом. Так вот, они выпили и пошли в ресторан, а там у барной стойки она заметила дивного красавца. Посмотрела на него эдаким соблазняющим взглядом, и он ответил ей тем же. Знаешь, какой у нее бывает взгляд?
Так вот, она нарочно громко сообщила друзьям, что не хочет десерт и поедет к себе, в пустой дом, и почитает в тишине. Она специально сказала это так, чтобы он услышал и понял, что ни муж, ни дети не помешают. Она знала бармена и не сомневалась, что он даст красавцу ее адрес. Приехав домой, она надела пеньюар, и тут позвонили в дверь. На пороге стоял тот красавец. Он стал целовать ее прямо в коридоре, положил ее руку на свой член, сбросил брюки — прямо в коридоре! Тут-то она и заметила: хоть он и красавец, но жутко грязный. Не мылся, наверное, целый месяц, сказала она. Лишь только она почуяла, как от него воняет, пыл ее угас, и она стала думать, как бы засунуть его в душ. А он все целовал ее и раздевался, и воняло от него все сильнее и сильнее. Тогда она спросила, не хочет ли он выкупаться. А он вдруг озверел, стал орать, что ему нужна баба, а не мать, что это мамаша ему говорила, когда мыться, когда стричься, когда чистить зубы, и не для того, чтобы узнать, надо ли ему помыться, он ходит по барам и ищет, с кем бы перепихнуться. Он оделся и ушел. Эту историю она рассказала мне, чтобы я понял, какое мужество нужно женщине легкого поведения.
Но я и сам тоже хорош. Однажды я вернулся домой, пошел наверх посрать и заметил возле унитаза пачку журналов об охоте и рыбалке. Я вытерся, надел штаны и стал орать, что она совсем обалдела, если трахается с рыбаками, страдающими запорами. Я все орал и орал. Она где-то подобрала болвана, который в жизни не забросил удочки. Представляю, как он сидит на унитазе с красной от напряжения рожей и читает, как ловят американскую щуку в буйных северных водах. Я сказал, что она такого и заслуживает — стоит только на нее посмотреть, сразу ясно, что она будет трахаться с каким-нибудь прыщавым типом с бензоколонки, который рыбачит по журналам и даже посрать нормально не может. Она все плакала и плакала, а где-то через час я вспомнил, что сам оформил подписку на эти журналы. Я попросил у нее прощения, но она все равно обижалась. Я чувствовал себя таким гадом.
Фаррагат промолчал — он вообще редко отвечал Рогоносцу. Тогда тот ушел в свою камеру и включил радио.
Во вторник утром у Рэнсома начался понос, а к вечеру среды понос был уже у всех, кроме Скалы. Петух заявил, что это все от свинины, которую они едят целую неделю. Он уверял, что из его куска мяса вылетела муха, он ее поймал и хотел всем показать, но никто не стал смотреть. Они записались к врачу, но Уолтон и Голдфарб сказали, что госпиталь переполнен и в ближайшие десять дней ни врач, ни даже медбрат не смогут никого принять. Как у всех остальных, у Фаррагата начался понос и поднялась температура. В четверг им в камеры принесли обезболивающее. Оно помогло на час забыть о Фальконере, но понос не прекратился. В пятницу после обеда объявили: «В связи с эпидемией гриппа на северо-востоке страны администрация реабилитационного центра проводит вакцинацию. Вакцинация будет осуществляться с девяти ноль-ноль до восемнадцати ноль-ноль и является обязательной. Никакие суеверные и религиозные оправдания не принимаются».
— Они используют нас, как морских свинок, — сказал Петух. — Да-да, как морских свинок. Я знаю, как это бывает. Тут сидел один тип с ларингитом. Они стали делать ему уколы, два-три дня делали и не успели даже дотащить до госпиталя, как он уже умер. А еще был один с триппером, с самой легкой формой триппера, и после уколов яйца у него распухли, стали огромными, точно бейсбольные мячи. Они становились все больше, он не мог ходить, и его унесли на носилках, накрыв простыней, под которой вырисовывались огромные яйца. Был один, у которого из костей вытекал костный мозг, он совсем ослаб, ему вкололи какую-то неопробованную вакцину, и он окаменел, буквально окаменел. Скажи, Тайни? Эй, Тайни, скажи им, что был такой тип, у которого мозг вытекал из костей, и он превратился в камень.
— Тут нет Тайни, — сказал Уолтон. — Тайни придет только в субботу.
— Ну вот придет, тогда подтвердит, что тот тип превратился в камень. Стал твердым, как бетон. У него на заднице Тайни нацарапал его инициалы. Превратился в камень прямо у нас на глазах. А шизики? Если они думают, что ты двинулся, тебе делают укол — а в шприце такая желто-зеленая жидкость. Бывает, помогает, а бывает, что ты, наоборот, окончательно сбрендишь. Тут сидел парень, который уверял, что может сыграть государственный гимн на пальцах ног. Целыми днями только этим и занимался. И ему вкололи ту дрянь. Он оторвал себе ухо — не помню, правое или левое, — а потом воткнул пальцы в глаза. Сам себя ослепил. Тайни, скажи, такое было, Тайни, расскажи им про желто-зеленую вакцину, от которой сходят с ума.
— Тут нет Тайни, — повторил Уолтон. — Он придет в субботу, и вы мне все осточертели. У меня жена и ребенок. Они только мечтают о таких прививках, но у меня нет на них денег. Вы тут получаете лекарства, которые могут позволить себе только миллионеры, и еще жалуетесь.
— Да ладно! — возмутился Петух. — Я на что угодно согласен, если это бесплатно, но не позволю делать из себя морскую свинку.
На прививку вызвали в субботу после обеда. Ее делали не в госпитале, а на складе — в окошечках с табличками EXTRA LARGE, LARGE, MEDIUM, SMALL. Человек пятнадцать — двадцать, которым религиозные убеждения не позволяли принимать лекарства, собрались у корзины для грязной одежды. Фаррагат спросил себя, есть ли у него такие религиозные убеждения, ради которых стоит попасть в одиночную камеру. Его зависимость от наркотика была и духовной, и физиологической, ради него он мог бы пойти даже на убийство. Тогда — и только тогда — он понял, что за три дня революции и три дня эпидемии ему ни разу не вкололи метадон. Он не знал, что и думать. Он узнал одного из санитаров — того, который колол ему метадон. Фаррагат закатал рукав, протянул руку и спросил: