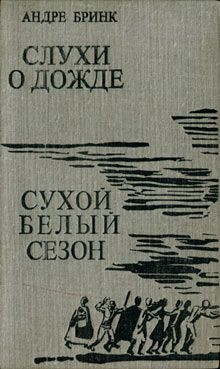— Папа, а как мне его называть: дядя Чарли или аута[9] Чарли?
На мгновение я лишился дара речи.
Чарли расхохотался и вытер набежавшие от смеха слезы.
Вот ведь проблема, правда? — сказал он, — Я думаю, лучше всего называть меня просто Чарли? Договорились?
— Ладно, — согласилась она, послав нам обоим воздушный поцелуй.
Он сам пересказал за столом эту историю. Элиза потупилась. Бернард быстро взглянул на меня, потом оглушительно захохотал.
— Когда я впервые пожал руку чернокожему, — сказал он, — мне казалось, что я не смогу брать этой рукой пищу.
— Не волнуйся, — ответил Чарли. — Аналогичный случай. В Кембридже, после того как белый первый раз пожал мне руку, я купил флакон «деттола»[10] и долго тер ее.
— А вот когда мы голозадыми купались и дрались у запруды, мы даже не знали, что есть такая штука, как «деттол», — заметил Бернард.
Напряжение каким-то образом спало. Вскоре мы уже разговаривали и смеялись так громко и весело, что Луи пришел узнать, в чем дело. С ним было не так просто, как с Ильзой, но к полуночи они с Чарли уже стали закадычными друзьями.
В тот вечер мы не только смеялись и дурачились.
— Почему же вы вернулись в Южную Африку, если у вас все так хорошо складывалось за границей? — задал я ему вопрос, который в последующие годы мне пришлось задавать очень часто и очень многим.
— Потому что здесь осталась часть меня. — Он засмеялся, но его глаза за толстыми стеклами очков были серьезны. — Понимаете, с тех пор как я пошел в школу, вся моя жизнь была своего рода отказом: от моего народа, от моей культуры, от моего языка и так далее. Мне хотелось обрести способность взглянуть на себя как бы глазами белого. Ваша цивилизация превратила меня в нечто иное, чем я был по рождению. Даже по сравнению с тем, чем я был в университете. Но раньше или позже я должен был вернуться. Чтобы найти и вернуть ту часть самого себя, от которой я отказывался все эти годы.
— И вы думаете, что вам удастся ее вернуть?
— О, я знаю, это не легко. Но я добьюсь своего, будьте уверены. Я должен добиться — иначе к чему тянуть всю эту канитель?
— Мы все тянем канитель, — сказал я. — Если вдуматься, Сизиф — это символ нашего века.
— Но не забывайте — для черных Сизиф означает нечто другое.
— Не в экзистенциальном смысле.
— Именно в экзистенциальном. Скажем так: белый Сизиф — это нечто метафизическое. Черный — нечто социальное.
— Боюсь, я вас не понял.
— Социальные причины обусловили наше нынешнее положение, выбрали нам камень. Спускаясь вниз, чтобы потом снова толкать в гору этот абсурдный камень, я ощущаю не метафизический, а социальный гнет… Вы можете размышлять в категориях самоубийства, если принимать толкование мифа о Сизифе, данное Камю. А я мыслю в совершенно других. Мне надо перейти от самоубийства к убийству. Думаю, что песня неведения уже спета. К черту Уильяма Блейка.
— Папа, а что значит «в экзистенциальном смысле»? — спросил Луи.
— Тебе давно пора спать, — угрюмо ответил я.
Когда он ушел, Чарли сказал:
— Вы не сможете всю жизнь удерживать его в стороне от таких проблем.
— Разве я его от чего-то удерживаю?
— Вы не ответили на его вопрос.
— Господи, да ему всего четырнадцать. Что он может понять в экзистенциализме?
— А что можем понять я или вы?
Я с улыбкой прервал наш спор:
— По-моему, нам просто необходимо еще выпить.
— Именно, — согласился Чарли. — Поскольку мы сейчас совершаем Великое отступление, — он улыбнулся, — новейший вариант Великого исхода.
— Ну, ты опять полез в метафизику, — осадил его Бернард. Он подмигнул мне: — Такое неизбежно в полночь. Как визит Франкенштейна.
— Но вы ведь не собираетесь убивать нас в наших постелях? — спросила Элиза.
Уже светало, когда мы вышли проводить их. Я пожал руку Чарли. Бернард с шутливой пылкостью обнял и поцеловал Элизу. Затем, словно это было совершенно естественно, Чарли тоже подошел, чтобы поцеловать ее на прощание. Я заметил, как она напряглась, и затаил дыхание. Но она спокойно подставила ему щеку, и вот уже Чарли с Бернардом сели в машину. Хлопнула дверца, заметался свет фар. В ночи исчезли и задние огни машины. Все смолкло, кроме стука тяжелых, больших капель, медленно падавших с веток деревьев. Элиза первой направилась к дому. Вокруг крыльца, в свете из окон, дрожали мелкие капельки дождя. Я пошел закрыть ворота. Положив руки на холодный металл, я постоял там некоторое время, угрюмо глядя вдаль и чувствуя себя более усталым, чем предполагал.
Даже сейчас весь тот вечер кажется мне балансированием на краю пропасти, на волне возбуждения. Но сейчас все размыто временем, и кругом лишь плещет черная вода.
Было холодно, зябко и очень тихо. Я чувствовал себя подавленно, так бывало со мной много лет назад, когда на меня обрушивалось одиночество после долгой и бессмысленной атаки на выбранную девушку, когда, победив ее сопротивление и затащив в постель, потом возвращаешься домой, чтобы хоть немного поспать, идешь один, в темноте, глубоко засунув руки в карманы и посвистывая, как на кладбище. Я «победил». Я «добился цели». Но добился ли? Или просто приглушил нечто непереносимое, нечто, что опять нужно подавлять в себе, как можно скорее отыскивая новую девушку, начиная атаку на нее, ломая и ее сопротивление?
Кто упомянул о Сизифе? А кто сказал: ничто не вызывает такой жизненной усталости, как повторение любовной страсти.
Пора было идти в дом. Становилось все холоднее и промозглее. В полутьме холла Элиза сказала:
— А он оказался очень милым, правда?
— Выходит, он тебе понравился?
— А тебе?
— Конечно.
Мне хотелось, чтобы она сказала что-то другое. Мне самому хотелось сказать что-то другое. Но, собственно, что?
— Ты, знаешь сказку о Луне и жуке-богомоле?
— Нет. А что?
— Просто спросил. Я тоже не знаю.
Она засмеялась:
— Какую чепуху ты иногда говоришь! — Она пошла по темному коридору в спальню.
Я захлопнул тяжелую входную дверь, словно пытаясь прогнать эту ночь.
Куинстаун. Огни вдоль улиц, лишь подчеркивающие пустынность города в этот час. Гаражи, витрины, то тут, то там еще открытые кафе, группа людей, выходящих из отеля и прощающихся на тротуаре. Широкий мост на другом конце города. Теперь огней чуть меньше. По пути они мерцали на лице у Луи, как блестки чешуи у змеи, меняющей кожу. Он сидел нога на ногу, по-прежнему глядя прямо перед собой. Промелькнули огоньки поезда и исчезли у нас за спиной. Дорога была дрянной. Один раз нам пришлось проехать несколько сот метров по песку. Черный водитель впереди не уступал дорогу. Подонок. Наверное, рад хоть как-то показать свое превосходство над белым. В конце концов, дав внезапно полный газ и круто вырулив, я обогнал его. Настала моя очередь помаячить у него перед носом, прежде чем оставить далеко позади.
— Теперь еще только проехать Каткарт.
Луи не ответил.
Местность, очень красивая и днем — широкие желтые равнины и в отдалении синие плоские холмы, — в лунном свете казалась фантастической. Пожалуй, в темноте она даже красивее — не так заметны следы засухи. В последнем письме мать писала: «У нас еще не бывало такой засухи, даже алоэ стали вянуть, никогда не думала, что господь так накажет нас». Она писала мне каждую неделю, из года в год, даже когда она болела — правда, такое случалось не часто: у матери крепкий организм, да к тому же несгибаемая воля, унаследованная от французских и голландских предков.
Если она вбила себе в голову помешать продаже фермы, будет очень хлопотно. Но я постарался успокоить себя: раньше мне всегда удавалось добиться от нее того, чего я хотел, может быть, потому, что мы с ней похожи. Тео был совсем другим — слабак вроде отца. Конечно, если бы отец был жив, вопрос о продаже фермы решился бы гораздо проще. Он был бы только рад от нее избавиться. Рад? Ведь когда незадолго до его смерти об этом зашла речь, он вдруг проявил неожиданную и бессмысленную привязанность к этим местам и настаивал, чтобы его похоронили именно здесь.
Родителей Бернарда уже давно нет на свете. Его мать мирно умерла во сне лет десять назад. А отец, этот могучий старик, хозяин фермы, не побежденный ни засухой, ни холодами, не смог пережить смерти своей хрупкой супруги и через полгода последовал за ней — с разбитым сердцем, как сказал врач.
Наверное, и к лучшему, что они не дожили до этого суда. Едва ли они смогли бы пережить такое. Но их тоже нельзя недооценивать. Бернард часто высказывал мысли и совершал поступки, пугавшие их, но они никогда не упрекали его, не теряли веры в него и любви к нему — они и теперь бы молились за него, но не осуждали. И все же суд был бы для них непосилен.