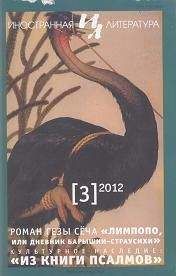В задумчивости я отправилась в свою клетку. На плацу, под предводительством старой грымзы Лулы, страусы дружно скандировали: «Мы хотим остаться! Не хотим летать!»
149. На следующий день. Анафема. Письмо Петике
— …но ведь еще ни один из страусов не пролетел здесь ни метра… — пыталась вставить мне лыко в строку привереда Пики. — Как ты это себе представляешь?!
— Сегодня ночью каждый из нас должен заглянуть в себя и найти там того бывшего страуса, который когда-то…
— Вы слышали, дядюшку Бэтмена объявили в розыск? — некстати вмешалась Туска.
— …найти в себе, — продолжала я, — ту большую и благородную птицу, которая пересекала целые континенты наперекор бушевавшим морским стихиям и песчаным бурям… Эту птицу вы должны отыскать в себе, пока спите, и утром ее крылья поднимут вас в воздух, и мы покинем эту юдоль печали с ее бойнями, немытыми живодерами, провонявшими жутким пойлом охранниками, борделями, кашляющими привидениями и подземными гонведами…
Поблизости замелькала чья-то зловещая тень. Это был Глыба.
— Привет, Глыба. Чего мечешься с такой рожей, будто завтра война? — встретила я его.
— Опять небольшая промывка мозгов? — цинично поинтересовался Максико.
— Welcome, Глыбушка, — приветствовала его Пики. — Ты к нам?
— Я пришел возвестить вам решение совета старейшин, — изрек он не часто используемым им ветхозаветным тоном.
Ничего доброго это не предвещало, поэтому я почувствовала недоброе. Совет, кстати, — или ЦК, как в шутку иногда называл его покойный Потемко, — после бегства нового вожака состоял всего лишь из трех-четырех членов: из самого Глыбы, Шубы, старой перечницы тетки Лулы, страусиной ведьмы, и, естественно, Капитана.
— Совет старейшин постановил, — небывало натянутым голосом продолжал Глыба, — за смутьянство, неуважительность, неурядицы…
— Какие еще неурядицы? — опять раскрыла клюв Туска.
— …своеволие, отступление от Закона и неподчинение вынести Лимпопо наказание в виде анафемы и изгнания на вечные времена из наших рядов.
— Теперь-то я понимаю Иеремию, — сказала я. — «А дщерь народа моего стала жестока подобно страусам в пустыне», плач Иеремии, глава четвертая, стих третий.
— А завтра эта кара постигнет всех, кто не прекратит с ней общаться, а также не явится на утренний урок забвения, на котором мы будем стирать имя Лимпопо.
— И память о ней заодно, — добавила я. Мной овладели невыразимые гнев и горечь. — И на это вы нашли время? Именно сегодня вечером? Для вас сейчас нет более неотложных дел, чем травить меня?! Неужели и правда вы думаете, что завтра у стаи не будет более важных дел, чем выживать с фермы Лимпопо? Вы в своем уме?
— Будет так, как здесь сказано. А теперь — отбой, — распорядился Глыба.
И страусы разбрелись по клеткам и — не знаю, с какими мыслями — вскоре затихли. Тишину нарушало лишь монотонное бормотание Очкарика со столба: мумба-юмба, елы-палы, аты-баты, шуры-муры, мене-текел, ёксель-моксель, шито-крыто…
Где-то вдали Усатый дубасил сорокасантиметровой палкой из дерева твердых пород по струнному тамбурину, переделанному из виолончели Гварнери, из которой удалили душку и почти до самого основания сточили подставку для струн.
Я отправилась на излюбленную поляну, перед тем заглянув к альбатросу.
— Маэстро, наступает час истины, — постучалась я к нему.
— Хорошо. В таком случае можешь освободить меня от пут, — сказал он.
Не прошло двух минут, как я избавила его от веревок, опутывавших ноги.
— Может, выполните пробный полет? — сказала я.
Он задумался.
— Ты права, пожалуй, не помешает.
И взмахнул огромными, словно паруса, крыльями.
Уже с высоты он сказал мне:
— Я скоро вернусь. Так когда, говоришь, отправляемся?
— Как только солнце взойдет! — прокричала я.
— Отлично, — донеслось сверху. — Встретимся на плацу! Хорошо?
— А ты правда вернешься?
— Ну конечно. Ждите меня, где условились!
* * *
ПИСЬМО ПЕТИКЕ
[Примечание автора. В этом месте между страницами дневника вложен помятый конверт с двумя сложенными вчетверо листами бумаги. «От Петике» — написано на конверте. Все письмо состоит из двух нижеследующих строк.]
ГЛЯДЯТСЯ ПТИЦЫ В ЗЕРКАЛО РЕКИ;
БОГ — ЗЕРКАЛО, ЧТОБ ДУШАМ ПОГЛЯДЕТЬСЯ.
[На обороте — две строчки Омара Хайяма и какое-то замысловатое рассуждение.]
Душой, перенесшей страданья, свобода обретена.
Пусть капля томится в темнице — становится перлом она.
Возможно ли, что после грехопадения Адам вновь обрел дар речи с помощью падшего ангела Абаддона? Или научился петь? Ведь песня древнее речи. Hamann. Aesth. in N.: «Одна лишь страсть может дать абстракциям и гипотезам руки, ноги, крылья, а образам и знакам — дух, жизнь, язык…» Изначально язык наш был уменьшенным образом и подобием Бога. Manilius: Exemplumque Dei quisque est in imagine parva Но образом и подобием кого может быть язык, на котором…
[На втором листке было несколько почти неразборчивых фраз. Больше всего он напоминал страницу из черновика романа, еще не выправленную, испещренную зачеркиваниями и вставками. Вот все, что мне удалось разобрать.]
В Панаме из зоопарка вырвались на свободу львы. Часть из них откочевала в Бразилию, и что с ними стало, никто не знает. А те, что остались в Панаме, не имея естественных врагов, расплодились. Но они не умели плавать и теперь, собравшись на южной стороне Панамского канала, нервно расхаживали взад-вперед и вприщур разглядывали противоположный берег.
150. Перед отлетом. Последние часы
— Я теперь знаю, как мы дошли до жизни такой, — объясняла я звездам. — Я знаю, что с нами произошло, а можно сказать и так: я помню. Когда-то давно мы несли службу у трона вращателя колеса, или в райском саду, или где-то поблизости, и были кем-то навроде ангелов.
Догадываюсь я и о том, что за какое-то тяжкое упущение мы расплачиваемся теперешним нашим обликом и теперешним положением, при котором народ наш живет во все более неопределенных, лишь местами еще ощутимых, рамках свободы.
Но настоящее падение у нас еще впереди. Вниз по лестнице из свободы в рабство мы прошли только полпути, и закончится этот спуск — это можно предвидеть — где-то в кротовьих норах. Именно так мы окажемся под землей, среди мертвых, только не в качестве мертвецов…
Под землей? Это с нашим-то богатырским сложением, с нашими страусиными габаритами?.. Это как же будет? Мне трудно себе представить, как мы роем когтями ходы и лазы в матушке-земле, отчего когти наши делаются все более устрашающими, в то время как крылья все более атрофируются, и как мы грыземся друг с другом… Огромные птицы, бывшие властелины небес, роющие себе норы, — разве это не посмешище? Разве не жалкое зрелище?
Однако не факт, что мы останемся огромными птицами. Вполне возможно, что к тому времени мы, потомки дюжих мадагаскарских страусов, сморщимся, и усохнем, и будем росточком с мышку-полевку или даже с кузнечика.
Ведь, может быть, крот, до того как дойти до жалкого состояния, тоже начинал, как мы. Парил под облаками, наблюдая орлиным взором за миром, а потом стал сдавать, и вот он уже только щурится, тыкается вслепую в подземной норе — со смущенной ухмылкой на морде, не понимая, что происходит вокруг, — и все роет и роет свои ходы, не ведая, чего ищет; но я знаю: он ищет себя и все то, что уже забыл, — высоту, простор, голубое небо, облака, полноту бытия, свет, свободу. И быстрые крылья.
И тогда я подумала: ну а вы, крылья наши страусиные, на что вы сгодитесь нам там, внизу, — там, долу, как молвил бы соловей? Может, только на то, чтобы смахивать вами песок с глаз или стряхивать с брюха грязь?
А что если завтра, когда прозвучит шофар, я не взмою под облака, чтобы взять курс на юг, и все кончится самым жутким образом на Переработке? Кто из страусов тогда разгадает, кем мы были и почему разучились летать? Кто сможет понять, что дело вовсе не в атрофии мускулатуры? Что это лишь следствие?
Крылья наши еще и сегодня помнят полеты, поэтому каждый страус — памятник, о господи, скоро начнет светать!.. — а еще эти крылья помнят о том, что некогда, еще до того, как он впал в грех беспечности, наш род, обладая блестящим наследием, был призван к большему, призван к лучшему, но забыл об этом, и с тех пор вбирает в сознание и инстинкты только все низменное и порочное.
Где-то хрустнула веточка, и послышались скользящие мягкие шаги — это мокасины индейцев, в чьих ружьях колышется на ветру ковыль-трава. Ступив на тропу войны, они пришли к нам, но остались одни, потому что, пока они шли, борьба за свободу была подавлена.
Но это, конечно, не их вина!
И куда им теперь податься? Надеть широкополые шляпы и тоже пойти в углежоги?