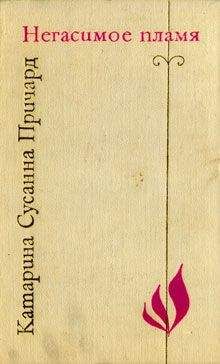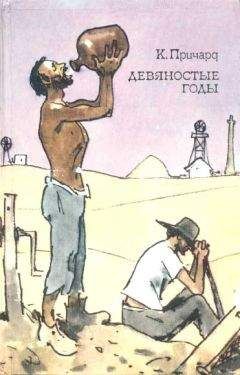Снова и снова доносилось заунывное, монотонное пение, и Мэри напряженно прислушивалась к жалобным причитаниям старика. Голос его звучал глухо, потом вдруг поднялся до такого пронзительного вопля: «Нгула! Нгула!» — что Мэри вскочила и быстрыми шагами направилась к сидевшему у костра старику. Он поднял затуманенные глаза на Мэри, возникшую перед ним в отблеске огня.
— Кто эта Нгула? — спросила она.
— Моя дочь.
Старик внимательно глядел на Мэри, лицо его потемнело от горя, звучавшего в его песне.
— Иенда?
— Мэри. Я живу с мужем там, на холме.
— Уонги?
— Метиска.
Старик уловил резкие нотки в ее голосе.
— Нгула тоже метиска, — тихо сказал он.
— Расскажи мне о ней. — Мэри опустилась на землю перед стариком. — Я из рода Балиари.
Он кивнул головой. Лицо его, испещренное глубокими морщинами, смягчилось, когда он увидел, что Мэри уважает родовые обычаи. Как будто между ним и Мэри возникла какая-то связь.
Но она не желает иметь ничего общего с этим грязным стариком, в смятении подумала Мэри. Она слишком долго жила среди белых, чтобы вернуться к образу жизни и представлениям туземцев. Зачем она назвала свой род? На тот случай, если они принадлежат к группам, которым, по родовым законам, запрещается общаться между собой? Чтобы он почувствовал себя свободнее? Или ее толкнул на это какой-то неудержимый порыв?
Гордая отчужденность, появившаяся в осанке старика, показала, что он отгадал ее мысли. Глядя на широкое смуглое лицо, отмеченное печатью горя и растерянности, Мэри испытывала сострадание, смешанное с почтительным страхом.
В его глазах, встретивших ее взгляд, отражалось пламя костра. На лбу старика под косматыми седыми волосами виднелась темно-красная повязка. Пусть рубаха его висела клочьями и выцветшие бумажные брюки были все в заплатах, пришитых с помощью зуба черной акулы, — Мэри почувствовала, что в своем племени старик занимал почетное положение.
— Нгула — моя дочь и не моя дочь, — сказал он. — Я из племени Уабарри, наш тотем — эму. Гвелнит — имя, которое дали мне отцы. Джо Мозес — называли меня белые. Они нашли меня в камышах у ручья после схватки моего народа с белыми. Многие, многие из моего племени были убиты. Земля моего народа лежит далеко на юге, около реки Калган.
Мэри поняла, что Гвелнит умел говорить на языке белых людей так, как будто он не знал никакого другого; но порой он переходил на родную речь или на смешанный диалект, при помощи которого туземцы разных племен изъясняются между собой в поселках.
Вот что рассказал он Мэри, часто отвлекаясь от основной нити рассказа и погружаясь в воспоминания о далеком прошлом.
Жена одного из первых поселенцев взяла туземного младенца, чье племя было истреблено, и воспитала его вместе со своим сыном. Мальчики росли вместе, учились ездить верхом, управляться со скотом. Когда молодой Джек Уинтертон отправился на север к Порт-Хедленду, где он получил большой участок земли, Гвелнит поехал с ним. Гвелнит стал главным погонщиком на скотоводческой ферме «Джирали», в поединке на копьях добыл себе женщину из местного племени и поселился с ней в туземном поселке.
Старики племени относились к белым враждебно. Хотя они по-прежнему верили в то, что душа ребенка приходит к будущей матери из скалы, пруда или какого-либо животного, оплодотворенного жизненной силой предков, они решили, что общение их женщин с белыми ослабляет племя. Они предвидели, что, если они не будут оберегать своих женщин, племя вымрет, как это уже случилось со многими племенами. Старики знали, что от общения туземных женщин с белыми мужчинами рождаются дети со светлой кожей, а светлая кожа считалась признаком хилости. Поэтому женщинам племени было запрещено отдавать свое тело белым мужчинам.
С ликованием и гордостью матери показывали своих младенцев, радуясь темному бархату их кожи. А больше всех гордилась Митуун, жена Гвелнита, рожавшая ему сыновей с такой же отливавшей бронзой кожей, как ее собственная.
Потом у нее родилась дочь. Когда старухи, принимавшие младенца, увидели цвет его кожи, увидели стыд и ярость Митуун, они кое-что заподозрили. И Гвелнит, когда ему показали девочку, тоже понял, что Митуун нарушила запрет. Его охватил гнев, ибо жена навлекла позор на него, человека хотя и чужого этому племени, но чистокровного туземца, которому ее соплеменники привыкли доверять и которого они приняли полноправным членом в свою семью. Однако гнев Митуун превосходил его собственный.
— Хозяин виноват, — сказала она. (Голос старика задрожал при воспоминании об этом.) — Когда ты уехал собирать стадо, я пошла в большой дом за провизией. Он велел мне зайти в кладовую и запер дверь. «Ничего не будет, — сказал он, — никто не узнает». А теперь появился этот ребенок, чтобы меня позорить. Айэ! Айэ!
Гвелнит много лет жил счастливо со своей женой. Когда он практиковался в метании копья, чтобы отвоевать ее у мужчины другого племени, которому она была обещана, Митуун была тоненькой девочкой. Она стала красивой полногрудой женщиной, Гвелнит никогда не усомнился в ее верности ему и племени. Больше всего его поразило то, что этот позор навлек на них человек, которому он столько лет служил верой и правдой.
— Ребенок не должен жить! — в гневе воскликнула Митуун. (С грустью рассказывал старик.) — Наши люди должны узнать, что белый принудил меня. Они скоро забудут об этом.
Гвелнит стоял и смотрел на девочку, лежавшую в деревянном корытце, на ее нежное желтовато-коричневое тельце, на черные ресницы, загибавшиеся над закрытыми глазками, на крошечные ручонки. Он вспомнил о том, что когда-то сам был вот таким маленьким существом и таким же беспомощным. Гнев его растаял.
— Она моя дочь, — сказал он старухам. — Следите, чтобы о ней хорошо заботились.
Они поняли. Мужчина мог назвать своим каждого ребенка, рожденного его женой. Они не посмели ослушаться Гвелнита.
Его решение повергло Митуун в мрачное раздумье. Она отказывалась замечать ребенка. Ее груди набухали молоком, но она не хотела кормить девочку.
По вечерам, возвращаясь с пастбища или из загонов, Гвелнит находил Митуун сидящей на корточках перед хижиной, из которой раздавался жалобный детский плач. Он брал девочку, обмывал ее и стоял над Митуун, пока она кормила малышку. Так повторялось каждое утро и вечер. И каждый день они с Митуун ссорились из-за девочки.
Нгула — он назвал ее, потому что она была похожа на маленький желто-коричневый цветок, росший по берегам ручьев и на болотах в его родных местах. Гвелнит предупредил Митуун, что, если она не будет кормить Нгулу и заботиться о ней, он увезет ребенка. Гнев и ревность тлели в сердце Митуун, потому что глаза Гвелнита сияли, когда он смотрел на девочку, и омрачались, когда он смотрел на нее, Митуун, свою жену.
Однажды вечером, придя с работы, он не услышал плача в хижине. Митуун, как всегда, сидела снаружи, угрюмо нахмурясь.
Гвелнит заглянул в хижину. Деревянное корытце было пусто.
— Где Нгула? — Страх, пережитый им в тот вечер, снова зазвучал теперь в голосе старика.
— Муравьиный народ взял ее, — сказала Митуун, — желтокожая не будет больше меня позорить.
Гвелнит в ярости схватил ее.
— Куда ты ее девала? — крикнул он.
Но Митуун отказалась говорить. Только после того как он избил ее в кровь, перепуганная до смерти, она ответила:
— Отнесла на муравейник — около Большой Скалы…
Гвелнит кинулся в заросли. Уже стемнело, а ему надо было найти в густой поросли терновника и акаций тропинку, ведущую к Большой Скале, которая была в десяти милях от поселка. Отыскав тропу, он бросился бежать с быстротой своих братьев эму. Страшные мысли терзали его. Наконец, еле переводя дух, он добрался до равнины, на которой возвышалась Большая Скала. Здесь тянулись муравейники.
При свете поднимавшейся луны Гвелнит стал искать среди них Нгулу, то и дело нагибаясь и прислушиваясь: не раздастся ли знакомый детский плач. Но все было тихо. Наконец он нашел ее: девочка лежала на спине — маленький желтый комочек, покрытый сотнями черных муравьев, которые присосались к глазам, ко рту, впились во все складки ее тела.
Гвелнит взял девочку на руки. Она была еще жива, еще дышала, но так слабо, что ему казалось: муравьиный народ уже взял ее душу. Гвелнит стряхнул с нее насекомых, снял их с ее глаз, губ и раны на лбу. Ему нечем было привести девочку в чувство, кроме собственной слюны. И он влил ее в детский ротик.
Быстро и бережно нес он ее по тропинке, изредка останавливаясь, чтобы прильнуть ртом к ее губам и услышать звук ее дыхания.
Представ перед Митуун с ребенком на руках, Гвелнит сказал:
— Если Нгула не будет жить, Митуун умрет.
Митуун взяла девочку. Малютка настолько ослабела, что не могла сосать. Тогда Митуун стала сдавливать соски, и молоко капля за каплей полилось в ротик Нгулы. Митуун не могла понять безумия, охватившего ее мужа.