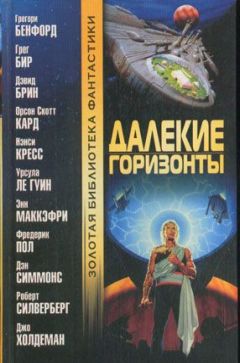– Вы почему молчите? – спрашивает Лёва.
Фаня выставляет табличку‚ на которой начертано любимое присловье мамы Дворы: "Много говорить – мало слышать". Лёве кажется: рот у Фани прикрыт‚ чтобы по случаю не проговориться и не огорчить его‚ Лёву‚ подробностями смертного часа. А может‚ глина набилась в рот‚ когда скидывали их в яму?
– Вы подросли‚ – удивляется Лёва. – Но не очень. Как же так?
Фаня выставляет другую табличку: "Нам некуда торопиться".
– Мне тоже.
Они дружно шагают рядом в миражное свое детство‚ на край нехоженых болот‚ чтобы наловить юрких головастиков‚ которых Срулик называл глазастиками из-за малых голов и громадных глаз. Поймав их с десяток‚ они понадеются поначалу‚ что из маловидных созданий проклюнутся окуньки с карасиками‚ чтобы резвиться на подоконнике в банке с водой‚ но у глазастиков неумолимо прорастут ноги‚ и надежда на мальков улетучится‚ обращаясь в скучную лягушачью неотвратимость. Земля вод и туманов простирается перед ними‚ закутанная в непроходимые болота‚ угрюмый лесной мир с холодными незамерзающими ручьями‚ где запрятались на холмах поселения‚ к которым нет пути‚ где водятся медведи с волками‚ лоси с кабанами‚ сытеют в озерцах утки с гусями‚ объедаясь жирными вёрткими вьюнами. К зиме болота промерзают и становятся преодолимыми‚ такое случается и в нестерпимую летнюю сушь; тогда из лесов‚ из-за великой непролази‚ являются болотные обитатели‚ угрюмые‚ молчаливые и удрученные‚ везут по дорогам‚ залитым водой‚ впрок заготовленное на продажу: деготь‚ смолу‚ дрань‚ гнутые полозья‚ дуги и оглобли‚ везут сушеную и копченую рыбу‚ мед‚ воск‚ сало и окорока‚ солонину из дичи в крепеньких выпуклых бочонках. Продают с выгодой на базарах‚ налегке отправляются назад‚ в глубины болот‚ куда нет доступа посторонним: вот бы прихватили с собой печальную Фаню‚ Голду с Гитой‚ озорника Срулика и несмышленого Мойше‚ вот бы увели за непролазь и уберегли до срока‚ – придут эти‚ в высоких сапогах‚ готовые покидать детей в яму‚ а на пути встанут манящие бугры призывно зеленеющими островками‚ в тонкосплетении стеблей и корешков‚ способные удержать ненадолго по сиюминутной прихоти‚ чтобы просесть вдруг под тяжестью сапога‚ с хлюпаньем поглотить без возврата. Несмышленый миражный Мойше бежит за миражной божьей коровкой‚ просит потешно‚ протягивая пухлую ладошку: "Ермилка-кормилка‚ лети сюда! Ермилка-кормилка‚ принеси хлеба!.." Чужим нет хода за те болота и спасения тоже нет...
8
Тихий вздох. Колебание легкое. Общее затаённое шуршание. Все заново туманятся воспоминаниями‚ и после смены декораций проявляется громоздкий несгораемый шкаф‚ обращенный в долговременную огневую точку. Прорези-амбразуры. Нацеленные рыльца пулеметов. Траншеи с накопанными ходами сообщений и пристрелянными подходами. Земля потрескивает под саперными лопатками‚ как переспелый арбуз‚ готовая развалиться на половинки от усердия высшего командного состава. Дверь открывается‚ неподъемно могучая дверь на хорошо смазанных петлях. В глубинах каземата хоронится от забвения команда геронтолога Сасона на защите своего бессмертия. Сидят смирно. Глядят грозно. Пугают дружно. Старик с орденами – за командира. Старик с телефоном – за радиста. Старик с собачкой – за заряжающего‚ направляющего‚ погибающего. Их раскопают дотошные археологи‚ выставят на обозрение с разъясняющими табличками‚ в едином ряду с узколобым питекантропом‚ чтобы подтвердили‚ наконец‚ непрерывность эволюции: о таком бессмертии они мечтали? Старик с орденами спрашивает в волнении:
– Это война? Да или нет?.. Если война‚ мы обязаны взорваться. Не дожидаясь прихода противника. Мы же объект. На нас динамита – пуд с четвертью‚ чтобы не доставаться врагу.
– Чего вам взрываться? – советуют из каравана. – Сидите в сейфе‚ перебирайте награды. Враг‚ может‚ не подойдет.
– Как это – не подойдет? Всегда подходил‚ должен и теперь. По инструкции положено...
Но кто первым заметил?
Кто запрокинул голову?
Пискнул изумленно-немощно‚ – кто?..
Следят сосредоточенно‚ выглядывают с опаской в единении задранных голов‚ как наверху‚ в предвечерне синеватом провале неумолимо зарождается смерч-оборотень‚ раскручивает неспеша силу свою и свирепость – пологой воронкой донизу‚ словно прикидывает для пущей выгоды, в какую сторону двинуться‚ кому принести мглу и погибель, чтобы засосать и швырнуть оземь, проволочить по камням‚ растирая в сырую мякоть.
– Папа! – кричит Авива с верблюда. – Берегись‚ папа!..
Мужчина из миража – зыбкий‚ неустойчивый‚ желтый частично‚ частично зеленый‚ голубой‚ синий‚ фиолетовый – сутулится над неглубокой выемкой. Вставляет саженец‚ заваливает корни‚ притаптывает для крепости‚ лункой уминает вокруг.
– Уходи! – торопят из каравана. – Снесёт ветром!..
– Не успеют‚ – говорит папа‚ втыкая в ямку другой саженец. – На этой земле быстро растут деревья.
Авива бежит по песку‚ захлебываясь от нежности. Авива желает в мираж‚ к папе‚ чтобы не валяться вечерами на ковре‚ разглядывая глянцевую журнальную жизнь‚ не ходить по комнате от стены к стене‚ подстерегая будущее‚ как кот Хумус подстерегает Сумсума‚ первую его оплошность‚ чтобы употребить без задержки.
– С мальчиками всё-таки проще‚ – говорит мама со своего верблюда‚ и папа кивает головой.
Папе с мамой всегда было просто. Дружно и согласно вдвоем, в доме‚ свободном от прегрешений‚ без излишних соблазнов и искушений‚ которые привносит сытая жизнь с обилием свободного времени. Что было у них? То и было: половина яйца в обед‚ ломоть хлеба‚ яблочное повидло из паданцев‚ танцы на поляне‚ песни под аккордеон‚ ружье за плечом и патрулирование в горах до утра. Пришла война – отодвинула границу. Пришло благополучие – отодвинуло простоту. Отошла простота – навалилось одиночество.
– Ты рано ушел‚ – укоряет мама. – Вдвоем можно всё одолеть‚ и росли бы у нас внуки‚ много внуков.
– Я рано ушел‚ – извиняется папа. – И оттого мне неловко.
Авива мучается настоящим в ожидании перемен‚ а потому желает шагать рядом с отцом от ямки к ямке‚ втыкая крохотные саженцы‚ притаптывая для крепости‚ разматывая трубку полива с дырочками‚ через которые вода прольется на росток‚ в самые его корешки: посадившему дерево – насладиться тенью. Там‚ рядом с папой‚ Авива еще ребенок; он снова понесет ее на плечах‚ подложит в тарелку лакомые кусочки‚ встанет ночью и накроет одеялом‚ которое она сбрасывает и теперь‚ ежась от настырного ветерка‚ выдувающего к рассвету прежнюю духоту‚ – но теперь некому ее накрывать. Возле папы вновь ожидает молодость‚ незабываемый Йоси в запахах земли и трав‚ непременное материнство: тут‚ на этой земле‚ быстро растут дети‚ словно трубочки полива подведены к каждому из них.
– Авива‚ – умоляет папа‚ – остановись и послушай. Мама хотела уйти со мной‚ в последние мои часы‚ но я ей сказал: "И не думай‚ пожалуйста. Ты остаёшься за двоих".
– Это была ошибка‚ – с грустью говорит мама.
– Тебе рано в мираж‚ Авива. Когда мама уйдет‚ останешься за нас. Кому-то копать могилы‚ кому-то – ямки для саженцев...
9
Разгуливается ветер‚ вновь нагоняя наваждение. Проглядывают блеклые лики‚ припорошенные усталостью‚ вплотную друг к другу‚ без промежуточных пустот‚ словно набранные в мозаику искусным мастером. С каравана посматривают на них равнодушно‚ с усмешкой: так смотрят на фотографии сгинувших времен с превосходством живого существа‚ которое заведомо лучше неживого.
– Боря‚ – говорит Нюма. – Под навесом‚ в развалинах римского дома‚ огороженная от любопытствующих‚ пылится блеклая мозаика‚ на которую взглядывают без интереса. Приходит служитель‚ орошает водой из шланга‚ и цвета просыпаются ко всеобщему восхищению‚ лики светлеют‚ растения прорастают‚ львы с фазанами пробуждаются к жизни‚ – но просыхает вода‚ проступают проплешины‚ вянут цветы‚ задремывают львы‚ пылью подергиваются лики.
Боря отвечает‚ разглядывая изображения:
– Здесь вода не поможет. Только память‚ и то не всякая.
В смытых обликах каждому проглядывает свое‚ стоит только постараться. У Нюмы глаза слезятся от напряжения. Нюма углядывает папу Моисея с мамой Цилей‚ которые смотрят на него с любовью и беспокойством; бабушка Муся шевелит губами‚ как остерегает: "Кто трет глаза‚ тот выжимает слезы. Кто напрягает память‚ тот выжимает печаль". Печаль Нюмы огромна: можно закутаться с ног до головы. Печаль Нюмы тонка и невесома‚ как искусно вытканная кисея‚ готовая порваться от неосторожного обращения. Возле бабушки Нюма замечает старика в ермолке‚ с пейсами‚ который разглядывает его с жадным любопытством. "Готеню! – восклицает старик в потрясении от увиденного. – Кто это?.." – "Твой правнук Нюма. Живет там‚ куда ты стремился". – "Кто это?" – спрашивает Нюма. "Прадед твой, реб Залман‚ которого ты не застал". Добрая весть требует благословения. Дурная – тоже. "На что это похоже? – задумчиво говорит реб Залман‚ поглядывая на диковинного потомка и накручивая пейсу на палец. – Это похоже на царя‚ который построил дворец с великолепными украшениями‚ редких наготовил угощений для гостей‚ а они пришли сытые‚ отобедавшие‚ обожравшиеся земными утехами..." – "Нет! – протестует Нюма. – Не так это..."‚ а ветер крепчает‚ пылью заглушая изображения‚ подхватывает и уносит лики – семечками из подсолнуха. Держатся до последнего папа Моисей с мамой Цилей‚ держатся возле них бабушка Муся и прадедушка Залман – стараниями Нюмы Трахтенберга‚ которому непременно надо объясниться. Но поздно‚ уже поздно. Строгий переросток подбирается поближе‚ чтобы не опоздать. Строгий переросток с умалённым разумом заплутал посреди сумрачных видений‚ туманом оплетающих голову‚ а потому желает туда‚ в мозаику‚ чтобы преобразило до блеклой одинаковости. Там уж никто не пожалеет‚ сочувствуя‚ не ткнет пальцем‚ ухмыляясь‚ не протянет из сострадания сосучку на палочке.