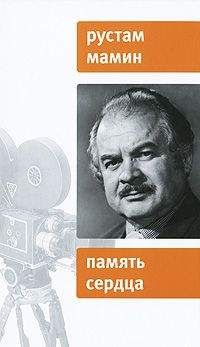«Много лет назад, ещё до того, как родился математик Матвей Кожакарь, под дубом, с которого позже упадёт твой дед, устраивали ярмарку, привозя душистый эспарцетовый мёд в сотах, маленькую, мохнатую обезьянку, метавшуюся по ветвям, пока шла торговля, и разные другие диковинки. Там же располагался точильщик ножей со щетиной такой грубой, что её можно было использовать вместо точильного бруска. Лицо он имел чёрное, и рядом с ним даже прокопчённые истопники из котельной белели, как снег.
− Людвиг Циммерманович Фер, − представлялся он, составляя с плеча на землю точильный круг.
− Вы, что же, из немцев? — косились на его раздвоенный, как копыто, подбородок.
− Из немцев, из немцев… − зевал он в волосатый кулак. — Из поволжских.
Сунув визитку, на которой значилось «Лю. Ци. Фер», он поглаживал небритые, как наждак, щёки, так что вокруг удивлялись, как он не оцарапается. Люцифер умел кусать себя за локти, не сгибаясь, чесать пятки и жонглировать в воздухе сразу пятью ножами, сверкавшими на солнце, как рыбья чешуя. Заточенные им ножи больше не тупились, были такими острыми, что прорезали не только скатерть, но и стол, в который входили, как в масло, так что ими постоянно кровавили себе пальцы, взяв даже за рукоять.
После работы сатана, надув щёки, ходил по двору, как по музею, ко всему присматривался, но ничего не трогал. «Будущее зыбко, прошлое размыто, — бормотал он, давая пустой кошелёк, в котором вдруг оказывалось куриное яйцо. — Один затевает игру, где оказывается пешкой, другой ставит спектакль в театре теней». Когда один нищий, безногий и горбатый, попытался разбить яйцо, оттуда внезапно вылупилась карлица с огромным, перевешивающим тело бюстом и стала похотливо таращиться. «Встань и иди!» — проворковала она, маня калеку ручкой, но тот лишь пялился на неё, как баран на новые ворота. «Рабы привычек, — сокрушённо вздохнула карлица, и улыбка её сделалась пресной, как маца, — привык глазами совокупляться». Увечный застыл, как пришпиленный. Карлица приблизилась на локоть и заорала, как иерихонская труба: «Хватит дармоедничать, работать пора!» Ног у нищего так и не выросло, зато, когда его от испуга хватила кондрашка, у души появились крылья.
Проходил Людвиг Циммерманович и мимо школы, которую закончил Матвей Кожакарь и в которой сейчас учишься ты, когда из окна донеслось: «Человек рождён для счастья, как птица для полёта». И, не удержавшись, вошёл. «Сравнение пришито к языку, как пуговица к штанам, — глубокомысленно изрек он. — Что звучит на одном языке, нелепо в другом. “Птица рождена для счастья, как человек для ходьбы”, — переводит ваши слова чайка, надрываясь в вышине от хохота. — Сатана сделался печальным. — Поэтому диалог между небом и землёй — как разговор женщин: предписанное сверху опускается невнятицей, а молвленное внизу поднимается болтовнёй…» И, сказав это, загромыхал по коридору тяжёлыми ботинками с железными, как лошадиная подкова, подошвами, неуклюже спускаясь по лестнице. Ты спишь?»
Яков Кац молчал, дрожа под одеялом. Услышав, как он клацает зубами, Саша Чирина выключала ночник и громыхала по коридору тяжёлыми, точно коваными, башмаками. А учительница рисования недоумевала, почему Яков на её уроках лепит из пластилина уродливые, фантастические маски. «Ерунда, − отмахнулась Саша Чирина, когда её пригласили в школу. — Чтобы стать нормальным, надо воспитываться на парадоксах». «Эх, Яков, все стареют раньше времени, оттого что созерцают мысли вместо идей, отблески вместо света, эхо вместо крика, − вернувшись домой, разглаживала она его непослушные кудри. — Вокруг много здравого смысла, а хочется-то чуда». Но её старческая выдумка возымела действие, Яков Кац стал бояться всего на свете: игравших с ним во дворе детей, взрослых, которые забирали их вечерами, топорщивших крылья чёрных воронов с красным зевом, собаку, ловившую пастью первые снежинки, и проводил время в углу, куда, как он почему-то решил, не может заглянуть Людвиг Циммерманович Фер, он потел там со страху, пока не засыпал, чтобы утром проснуться измученным кошмарами и, съев неизменную яичницу, тащить в школу тяжёлый ранец. Со своими страхами Яков Кац будет ходить по врачам и один раз даже обратится к батюшке Никодиму, у которого расплачется на глазах, однако, не услышав ничего вразумительного, поймёт, что помочь себе может только сам.
Постарев, батюшка Никодим стал желчным и ворчливым, будто искупая годы, когда был бесшабашным Антипом. «Заморочили вам голову — сидите на диетах, животы убираете! − брызгая слюной, брюзжал он на воскресных проповедях. − Но природа телевизор не смотрит, у неё свои показатели — долголетие и здоровье, чего ж против естества идти? А Бог и пузатых примет». «Это семинария из него выходит», − шептались в дальних рядах, а он смотрел долгим, немигающим взглядом, и люди представлялись ему тестом, из которого можно лепить что угодно, но стоит отпустить, как оно снова растекается, превращаясь в бесформенную жижу. «Это и есть их лицо», − думал он, вспоминая, как разыгрывал во дворе простодушных девушек, как сдуру женился, как на свадьбе его хлопали по плечу: «Судьба любит импровизацию, дела сердечные либо сразу делаются, либо не делаются совсем», как неожиданно для себя пошёл в попы, и жизнь казалась ему цепью нелепых случайностей. Батюшка Никодим высох, лицо его стало с кулачок, как у ребёнка, однако его облик не утратил былой представительности, оцарапавшись, он мазал йодом гноившуюся рану и вздыхал, что раньше всё заживало как на собаке. А внутри вёл обратный отсчёт, точно время, переключив свой счётчик, приближало ко дням молодости, когда он кривился, видя богомольного брата: «Хватит нам одного святоши», не подозревая, что пророчествует о себе. И теперь батюшка Никодим, как во сне, повторял то, что происходило с ним давным-давно, точно смотрел кино, прокручиваемое задом наперёд.
− Пойдем со мной, − протягивал он руку девушкам во дворе.
− Дашь много денег? — смеялись они смехом его бывшей жены. — Или возьмёшь замуж?
Как в трясину, его всё больше засасывало в детство, куда батюшка Никодим уходил от реальности с её надуманными, искусственными правилами, и единственное, что оставалось в нём от его возраста, была ночная бессонница, которую он считал святой, позволявшей взглянуть на мир широко открытыми глазами. «Венец творения… − кривился он, слушая за стенкой заунывную колыбельную, которой мать безуспешно успокаивала плачущего ребёнка. − Крикливая макака, у которой вчера отвалился хвост».
Вспомнив вдруг свою беседу с Нестором, батюшка Никодим проповедовал и во дворе, точно подбирал для неё всё новые аргументы. «Прогресс, человечество… − широким жестом обводил он дом. — Не больно много понастроили за тысячи-то лет! А почему? Грызлись больше! А строили безымянные, те, кого и не помнят. — И, воображая кривую ухмылку Нестора, злился: − Вот, ты был домоуправом, а простой истины не понял, что дома строят одни, а живут в них другие! — Нестор продолжал скалиться, и батюшка Никодим безнадежно махал рукой, точно говоря: − Э, да что с тебя взять!» Его никто не слушал, но ему было всё равно. «Вы и то лучше, − обращался он к облепившим грязную лужу воробьям. — И грызётесь меньше, и вреда от вас никакого. А человечество? Плесень ядовитая — вот что это такое!»
Осень пришла ранняя, батюшка Никодим смотрел на хлеставший за окном осенний дождь, на текущие по стеклу ручьи и думал, что Господь создавал русскую природу со слезами на глазах. «И русского человека, − рисовал он ногтём рожицы по холодному, вспотевшему стеклу. — Потому нам без слёз нельзя, иначе станем жестокими». Батюшка Никодим предался привычному для него течению мыслей, тому кругу ассоциаций, считавшемуся у русских философией, когда на него вдруг напала желчная критичность, приступы которой случались всё чаще, и он ясно увидел себя со стороны. «А что такое жестокость?» — подумал он, вспоминая, как в детстве вот так же стоял у окна, со скуки зажигая спички, и палил жужжавших между рамами осенних мух. Тогда ему не было стыдно, его руки были злы, а мысли — добры. Но теперь у него появилась жалость. «Ничтожные» — щурился он, подавая нищим у церкви после воскресной проповеди. И он с горечью понял, что с годами его руки и мысли поменялись местами: руки стали добры, а мысли — злы. У него всплыли в памяти детские шалости, когда он дразнил братьев Кац, убегая от них со всех ног, вспомнились пахнувшие тиной раки, которых, засучив рукава, голыми руками ловил на канале, канцелярские кнопки, которые подкладывал на стул учителям и прогулы школы, вместо которой забирался на дуб, сгубивший Академика, и с замиранием глядел на землю, повторяя: «Смотрите, я выше всех!» Бывало, в семинарии эти мимолётные видения радовали батюшку Никодима, приносили они облегчение и в монастыре, среди угрюмых, затворившихся по кельям послушников, теперь же скользнули по сердцу крылом летучей мыши, не оживив его. Домой батюшка Никодим больше не приглашал, повесив в шкаф драный халат, ходил нагишом, как в детстве, глядя на свои костлявые, похудевшие к старости ноги, на которых не мог теперь убежать даже от себя, а на могиле Изольды, принося вместо цветов игольчатые ветки с ёлочными игрушками, садился на откидную скамейку в сгорбленной позе ватного Деда Мороза и, сощурившись, спрашивал одними губами: «Изольда, Изольда, ты изо льда?» Весной, когда, пробив снег, по тротуару бежали журчавшие ручьи, он пускал спичечные кораблики, проходя мимо, дёргал за косы размахивавших портфелями школьниц, а бывшим дружкам, гулявшим с внуками, предлагал перекинуться в «подкидного». А когда те недоумённо косились, представлялся, слегка приподняв фиолетовую скуфью: