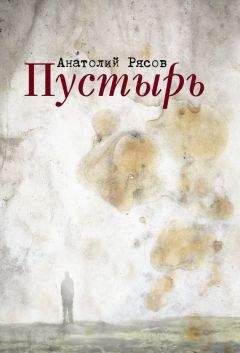Марфица недовольно посмотрела на учительницу. – Чего пожаловала? – Да помочь хочу. – Чего-то раньше не появлялась. – Но это же ученик мой, – тут Настя увидела, что тело Сашки лежит в соседней комнате на столе у стены, затерянное между стиральных досок и тряпок, а над ним копошится Нюра. – Что ж, и раньше пацаны мерли. – Ну, подмога здесь никогда не помешает. – Как знать, как знать, – причмокивая губами прочавкала прачка. – Я вот услышала, что вы про гвозди спорите, так могу я к кузнецу сходить, если больше некому. – К Нестерке-то? – Марфица скосоротилась и с некоторым отвращением отпрянула от учительницы. – А что такое? – Да ничего, ты будто в стороне живешь. – А я слухам не верю, для меня он – просто человек, принявший решение жить один. Так и что с того? – Что с того? Да когда я ему про девчонку сказала, он так спокойно, без расстройства, молча всё выслушал, будто наперед каждое слово знал! Сам он их и утопил, точно это! – Эти русалки-лярвы ребят наших за ноги и тянут теперь! – с готовностью подтвердила Нюра. – Вымыслы ваши при себе бы держали, – тихо произнесла учительница. – Вымыслы? Нет, слыхали?! Вымыслы! Слово-то нашла! – Хочет сходить за гвоздями, так пусть идет. Искать уже негде, годные отовсюду повыдирали, иначе без гроба хоронить парня будем, – рассудительно перебил хозяйку дед Егор.
– Идти-то, пусть идет, но само это намерение лицо твое истинное выдает как нельзя ясно, – вступил в разговор священник, сделав шаг в сторону Насти. – Это какое же истинное? Или помогать ближнему уже грехом считается? – быстро осознав необходимость обороняться, учительница подняла на него свои зеленовато-серые глаза. Лукьян надул щеки, готовясь к ответу, и говорить начал, не спеша, всем своим видом показывая, что мнение об Анастасии сформировалось у него давно, и теперь появилась долгожданная возможность наконец-то его высказать. – Наблюдаю я за тобой, и думаю. Ты, когда к ближнему жмешься, себя тайком хвалишь – и только. Тебе ближний нужен, потому что дальнего полюбить ты не можешь. Ближний-то начнет о тебе хорошо думать, и ты тогда тоже кумекаешь: а что, а ведь и вправду я славная. Только и делаешь, что за счет ближних собой наслаждаться пытаешься. Так и норовишь на шею прыгнуть, лишь бы тебя за хорошую признали. Тут за словом «помогу» прослушивается «перехитрю». Рука руку моет – вот твоя мораль мелкая. Так что помощи всей этой: ломаный грош – цена. И предупредительна так, потому что боишься, что тебе самой могут страдание причинить. И эту свою боязнь страдать ты личиной сострадания прикрываешь. А сострадание тебе и нужно-то только потому, что не умеешь ты чтить дарованное тебе страдание, бежишь от него, думая, что сможешь спрятаться. Буквальное понимание Библии – вот беда тебе подобных. А речь там вовсе не об этой мелочной, расчетливой, услужливой добродетели, а совсем о другой привязанности – любви, которую нам еще предстоит испытать, любви к чему-то, что еще ждет нас… Ведь уже сегодня любить должны мы эту будущую встречу, только она и достойна подлинной, великой любви. Вот ты и на исповеди-то не была ни разу. – Мне казалось, что исповедоваться – дело добровольное. – Хе-хе, добровольное. Слово-то опять какое. Ты словно больной, который вместо того, чтобы желать поскорее вылечится, требует лекаря пощадить его и прекратить лечение. Такие вот – больные духом – больше всего правды-то и боятся! – священник ликующим взглядом окинул собравшихся в комнате. В их глазах наряду с некоторым недоумением (слишком уж неожиданной оказалась для них эта тирада) читалось уверенное согласие с осуждением учительницы, которую все они за что-то (каждый за свое) недолюбливали. Но видимо не удовлетворенный эффектом своего выступления (больно уж тупо Нюра с Клавой вытаращили глаза), Лукьян решил продолжить: – Да и я-то тебе не нравлюсь только потому, что не соответствую твоим никчемным представлениям о доброте. Доброта-то, она у тебя какая-то бытовая, вроде веника или коромысла. Был бы я ручным и гладким, считающим каждую вещь хорошей, – так мы б давно уж лучшими друзьями стали. Смешно! Ты к людям как к домашним зверькам относишься, приручить всех пытаешься. О счастье ближнего речь обычно заводят те, кто сам мелок, как мышь. Вот потому-то добродетели эти противны мне больше, чем иные пороки. – Но то, что вы сейчас говорите, на Библию совсем не похоже, но напоминает чьи-то еще мысли, только вот никак не могу вспомнить чьи. – Да ты не вспоминай, а послушай лучше, может, отложится что-нибудь хоть! Ничто в мире не является таким источником зла и безумия, как это вот твое сострадание. Эта ничтожная добродетель – плод зависти и тщеславия. Эта боязливая осторожность – причина многих страданий, гордыня сплошная. И тут, быть может, таится самая страшная опасность! Таким добрым и праведным недостает только одного – авторитета! И если они получат его, то божусь, что фарисеев власть покажется нам справедливейшим из правлений! Беда в том, что ты уже эту власть частично получила – в школе. Именно поэтому я теперь и втолковываю, что в церковь детям стоит ходить много чаще, чем на учебу эту, от веры обособленную. – Да, но им еще надо хотя бы читать научиться, чтобы отличать Ветхий Завет от Нового. На исповеди-то на такие мелочи вам размениваться некогда, – ответила Настя, осознавшая, что ей не осталось ничего, кроме как огрызаться. – Да они ж дети малые и не способны Писание понять, а когда станут способны, уж и поздно будет, Писанию и учить-то можно только как Тайне, и никак иначе! – А вот в этой последней фразе, Лукьян Федотыч, вы Великого Инквизитора почти дословно процитировали! – Тут священник нахмурился и закрутил глазами, его щеки тряслись, а лоб сморщился, как сборки шторы, и единственное, что он смог выкрикнуть, ткнув пальцем в сторону выхода, было: – Вон! – Похоже, его не смущала ни неуместность этого разговора, ни некоторая странность жеста, ведь пересуды происходили всё-таки не в его доме. – Что ж, до свидания, – произнесла Настя и скрылась за простынями. – А за гвоздями всё ж таки сходи, – успел только крикнуть ей вслед дед Егор. – И чего бабенку эту хилую ветер принес, – прошипела себе под нос Марфица. А Клава с Нюрой так и таращили глаза, и жидкие желтые отсветы переливались на их рябых лицах. Только кошку этот разговор усыпил, и она, свернувшись в мягкий черный комок, улеглась под столом, на котором лежало чужое, разбухшее тело, прикрытое бесцветной простыней.
Учительница вышла под косой, моросящий дождь. Мерзкий, промозглый, бесконечный, но по необъяснимой причине – всё же манящий к прогулке. Порывы ветра швыряли ей в лицо кислую влагу. Дороги расползались грязью, кое-где можно было пройти только по брошенным под ноги доскам – обветшалые и гнилые, они вбивались в земляную кашу и иногда проваливались под воду – того и гляди, зачерпнешь лужу калошею. Настя медленно шла мимо дряхлых, обомшелых заборов, за которыми пытались прятаться от ветра поникшие, казавшиеся погибшими яблони. Над поселком непроницаемой пленкой растянулось блекло-серое осеннее небо. Всё живое ржавело, последние листья еще сильнее пропитались влагой и совсем пожелтели, готовясь к падению в лужи. Радость поддевания ногами сухой листвы в Волглом была недоступна. Мальчишки пытались жечь из нападавших клочков костры, но клейкие обрывочки только дымили да ластились друг к другу, как слипшиеся крылья. Но дети и этому были рады. Бегали тут весь день – обедать не загонишь. По пути учительнице встретились несколько таких пропахших дымом ребятишек. Дети поздоровались с ней, но она только кивнула в ответ, погруженная в слезливую, словно предназначенную для молчания погоду. Дождь холодными каплями зачехлял ее тело в мокрую, прозрачную накидку. А чумазые ребятишки, обволокнутые пыльным дымом, продолжили кроить друг дружке обезьяньи рожи и пугать сжавшихся под навесами тощих куриц, которые, опасаясь мальчишек, шипя, разбегались в разные стороны.
Прислушиваясь к дребезгу ветра, Настя задумалась о словах священника, ей действительно не приходило в голову, что ее доброта может быть воспринята как свидетельство эгоизма. Да, она сама знала, что помогает только в мелочах, но вовсе не потому, что не хотела помогать в главном, а потому что не знала, как это сделать. Нет, она совсем не чувствовала самолюбования: наряду со вселенской жалостью она испытывала какую-то странную вину перед всеми. Да, наверное, она понимала, что помогать другому – это нечто нужное, прежде всего, ей самой: пожалуй, не почувствуй она сама одиночества, может никогда и не стала бы никому протягивать руку, и, возможно даже, это было не до конца честным. Да, она помогала им не по доброте душевной, а по какой-то другой причине, нелепой и до конца не ясной ей самой, но ей казалось, что Лукьян довел всё до какого-то абсурда, при этом подчиненного внешне незыблемой, до безумия выверенной логике. А дождь всё продолжал литься с механической размеренностью, и в сером блеске капель всё размывалось, блекло, теряло всякие ориентиры. И ей было непонятно, почему не кончается дождь, почему не рассеивается туман, почему разъедает грудь кашель, почему грызутся люди, почему тонут дети, почему в какой-то момент к беде привыкаешь настолько, что перестаешь ее замечать, почему ей хочется переменить это и почему она не знает, как.