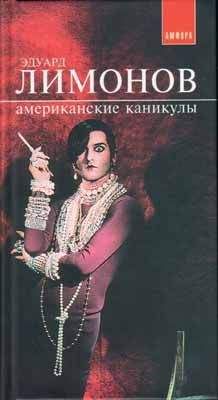— То в фильмах! Фильмы — хуйня. Их такие же, как я, евреи производят. Вон Мишка Козловский — творец. Голливуд кто, ты думаешь, основал? Мы, евреи! Традиционно еврейский гешефт. Вчера — Цукор, сегодня — Спилберг…
— Мой первый русский издатель, еврей из Бруклина, хотел, чтоб я продал им киноправа на книгу. Я высмеял его, что, мол, какой же смысл им покупать киноправа на русский текст. Он мне, сердясь, долго доказывал, что многие продюсеры в Голливуде преспокойно читают по-русски, потому как они евреи из России. Прав я ему, конечно, не продал.
— Ну и дурак, не послушался мудрого еврея. Может быть, давно бы уже фильм был сделан. Богатым был бы.
Из бара уже знакомые мне Лида, Дора и Рива, хохоча, вытащили Дэвика и, раскачав на счет «раз, два, три!», швырнули его в бассейн. Пышная дама в розовом платье, поместив недопитый джин-энд-тоник в кадку с пальмой, с истошным «А-аааа-х!» пробежала мимо нас к бассейну и бросилась в него. Сама.
— Рано начали бросаться, — заметил мой приятель, взглянув на часы. — До обеда даже еще не дотянули. В прошлом году все-таки продержались весь обед и только с наступлением темноты стали сигать в бассейн. Между прочим, бассейн на сваях — запатентованное изобретение нашего хозяина. Он один умеет такие воздвигать над бездной. Вода ведь — масса тяжелая, и при здешних калифорнийских землетрясениях такое сооруженьице должно обладать необыкновенной устойчивостью.
На террасе появилась с колокольчиком в руках жена хозяина.
— Товарищи! Товарищи! Минуточку внимания. Прошу всех к столам, товарищи. Каждый найдет свою фамилию в тарелке.
— Га-га-га, — почти зарыдал Виктор. — Пойдем, товарищ Лимонов, найдем наши фамилии в тарелках. Блядь, так и не отучились от советских привычек. Так и будут товарищами до конца дней своих… Товарищ Лева Школьников, передайте вашему товарищу Додику Шестинскому, что если он не уберет свой ресторан с Вэлшир-бульвара, мы пришьем вашего товарища, — спародировал он кого-то. — И пришили…
— Кого пришили?
— Кого надо, — он внезапно сделался серьезным. — Я забыл, что ты писатель. Тебе скажи, ты завтра в романе используешь. С вами осторожно следует себя вести.
Я пожал плечами:
— Ты путаешь писателей с журналистами.
В банкетном зале, он находился на один этаж выше уровня террасы, обнаружилось, что меня определили за один стол с интеллектуалами. Редактор местной русской газеты, редактор израильского журнала, поэт Борисович, кино — Козловский… Остальных интеллектуалов я не знал. Столы были большие, на десяток человек каждый. Все уже были на местах, когда я занял свой стул. Мне показалось, что интеллектуалы нехорошо поглядели на меня. Виктор «нашел свою фамилию в тарелке» другого стола.
Оказалось, что у вечера есть свой ведущий. Чернявый, с побитым оспой лицом молодой человек в бабочке вышел на эстраду. Да-да, там была эстрада, в банкетном зале дяди Изи, как в клубе, и на ней стояло пианино, возвышался микрофон. Чернявый вышел и сказал, что слово для стихотворного приветствия предоставляется поэту Борисовичу. Борисович — румяный человек небольшого роста с бабочкой, как и ведущий, но с ярко-красной бабочкой в белых брызгах профессионально, не спеша выбрался из-за стола и прошел к микрофону.
— Стихотворение-экспромт по поводу пятьдесят первого юбилея нашего всеми уважаемого дяди Изи Соломицера, — объявил он. — Написано сегодня в десять часов сорок минут утра. — Он выдержал паузу.
Сегодня, в этом просторном и шикарном зале,
Мы собрались, товарищи, как прошлый год мы отмечали,
Отметить дяди Изи юбилей,
Который служит вечным солнцем для своих друзей…
Если бывают у еврея горе вдруг, беда,
В Лос-Анджелесе, городе-герое,
Он знает, с горем и бедой пойти куда
И где ему всегда обед накроют.
Куда, я спрашиваю вас, пойдет несчастный?
В момент тревожный и в момент опасный?
В чей дом бежим мы, если нас ударит кризис?
Конечно, в дом на сваях дяди…
Борисович остановился, давая залу прокричать всеми двадцатью столами и двумя сотнями глоток: «Изи-с! Дяди Изи-с!»
Удовлетворенно выслушав зал, он опять захватил микрофон и, рванув его на себя, закричал:
— Так выпьем же, товарищи, за здоровье нашего дорогого Изи Соломицера! Выпьем на «три», товарищи! Раз… два… три!
Интеллектуалы творческого труда за нашим столом, все дружно, торопясь, разлили водку и успели выпить к «три» Борисовича.
— Как чешет Борисович, можно подумать, профессиональный конферансье, а не поэт, — сказал редактор местной газеты. — Он у меня страничкой юмора заведует.
— Так как приветствий и поздравлений поступило великое множество, то мы решили, товарищи, распределить их поровну и зачитать в течение обеда, иначе все вы останетесь голодными, — сказал ведущий. — А сейчас музыкальная пауза…
К пьяно уселся тощий молодой человек в черных брюках и белой рубашке, толстый оркестрант номер два вытащил из-под пьяно контрабас, ведущий взял в руки саксофон, и бригада стала извлекать из инструментов вальс «Амурские волны». Впрочем, я не уверен, может быть, это были «Дунайские волны», я всегда путаю их.
Кончено, в таком достойном доме на столах стояли красная и черная икра, и салат «Одесский», и котлеты по-киевски, и цыплята табака, о, я мог бы посвятить полсотни страниц кулинарии этого празднества, но ограничусь одним заявлением. А именно, базируясь на моем личном опыте многолетней жизни на юге СССР — на Украине, скажу, что ничто не отличало стол лос-анджелесского констракшэн-босса[41] Изи Соломицера от стола начальника стройтреста Молдавской Республики Изи Соломицера.
— Как живет! — восклицает редактор израильского журнала, выкладывая на свою тарелку черную икру из фарфорового бочонка. — Как живет человек!
— В этом году он еще скромно разошелся. Пятидесятилетие свое в прошлом году он пушечными выстрелами отмечал. На террасе установили пушку и шпарили, разумеется холостыми, в ночь. Полиция приезжала. Тоже отметили… Полиция приглашена была… — Редактор лос-анджелесской газеты явно похвалялся, гордясь своим широким соотечественником перед посланцем бедной страны Израиль.
— Завтра Изя устраивает юбилей для американцев. Сегодня для своих. Не хочет смешивать, — сказал мне кино-Козловский.
Он был единственный за столом, кто время от времени обращался ко мне. Все другие меня не замечали. Я думаю, что они, как и Виктор, считали меня писателем-порнографом, но в отличие от Виктора вовсе не радовались этому. В еврейском обществе чрезвычайно развито моральное, семейное начало, и, не отказываясь от бизнеса разложения чужих нравов (в том числе и порнобизнеса), они семейственны и реакционно-патриархальны в своей среде. У меня было такое впечатление, что творческие работники даже сдвинулись от меня, расположились гуще в их части стола. Рядом со мной же было просторно.
Местный «Плейбой-клаб» по «просьбе» четы Вольшонков (как объявил ведущий) прислал дяде Изе Плейбой-Банни[42] — с поздравлением. Одетая в купальник с хвостом и ушами, Банни преподнесла дяде Изе вечную, бессрочную подписку на журнал «Плейбой», и дядя Изя протанцевал с Банни, солидно и прилично поворачиваясь, несколько туров вальса. Теперь это уже был, безошибочно, вальс «Под небом Парижа». Присев ненадолго за стол дяди Изи, Банни вскоре ушла, сославшись на то, что она на работе.
Две сотни гостей жевали пахучие южные блюда и пахли сами. Пот омывал тела, разогретые водкой и пищей. Пахли крепкие средиземноморские салаты, соединяясь с запахом духов, дезодорантов и алкоголя. Осмелев, гости заговорили громче, стали перекрикиваться между столами.
— Прошу тишину, товарищи, — сказал ведущий, появившись у микрофона. — Слово предоставляется новорожденному.
Дядя Изя, о, в эти минуты он был похож на Аристотеля Онассиса в фильме «Последний тайкун»[43], дядя Изя сделал шаг на эстраду, качнул к себе микрофон и сказал, вытирая платком шею:
— Тут немало было сказано хороших слов обо мне, спасибо, товарищи, большое. Теперь я хочу произнести тост за вас, мои дорогие приглашенные!
Микрофон усилил в несколько раз и без того заметный южно-простонародный акцент бывшего начальника стройтреста Молдавской Республики и «дорогыэ прррыгглашенныэ» прозвучало железом о железо, грубо и с грохотом. Простой человек из народа, добившийся денег и успеха, обращается к своему клану, к друзьям в своем доме, на своем юбилее. Он мог бы без труда научиться говорить менее грубо, но, по всей вероятности, не хотел. Он хотел, как Аристотель Онассис, плясать «Сиртаки» или что там, «Фрейлейкс» на голливудском закате в маленьком голливудском порту, среди голливудских греков, в его случае — евреев. Мы и находились совсем рядом с Голливудом, кстати говоря.