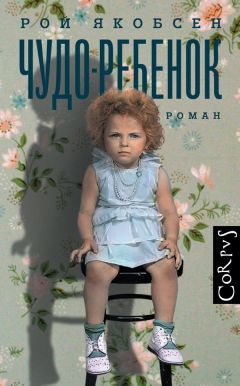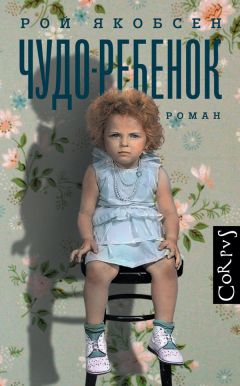— Сегодня утром сломали дома Желтого, Красного и Синего, — громко сказал я.
— Что?
Фрекен Хенриксен не привыкла к тому, чтобы я высказывался без спросу или загадками; правду сказать, я был ее любимым учеником, но по пути в школу я видел, как трое взрослых мужчин стояли рядышком и ревели будто маленькие, оплакивая снос своих убогих хибар, и уж лучше было представлять себе эту картину, чем думать о Линде.
— Снесли дома тех людей, что жили в Мюселюнден, — сказал я. — Бульдозером. Там и полиция была.
— Вот как?
— А я стоял и смотрел и все видел. Вот.
Я опустил глаза долу, чуть ли не благоговейно. Фрекен Хенриксен явно не могла для себя решить, насколько глубоко она может позволить втянуть себя в обсуждение проблем Желтого, Красного и Синего, так что я добавил, что их арестовали за незаконное проживание в своих халупах, потому что садово-парковая служба собирается разбить там газон, и не только на месте Мюселунден, но и по всему склону до самого Трондхеймского шоссе, там тоже все заросли расчистят. А поскольку парочка других учеников, по всей видимости, тоже имели свое мнение на этот счет, хотя и не подняли рук, фрекен Хенриксен повела речь об отверженных обществом людях, о несчастных, как она их назвала. Фредди I спросил:
— Это вы про бродяг?
— Нет, Фред, я не об этом, я говорю о том, что, возможно, не всем на долю выпадает достаточно любви, и по этой причине…
— Ухаха, — воскликнул Фредди I, широко ухмыльнувшись, и огляделся в поисках поддержки. И нашел ее в лице обычной кодлы; я к ним не подключился — сегодня не хотелось, я смотрел прямо перед собой, а фрекен Хенриксен быстро сделала несколько шагов в его сторону.
— Они во время войны участвовали в конвоях, — поскорее вставил я.
— А это что такое? — простодушно спросил Фредди I.
Фрекен Хенриксен остановилась, собралась с мыслями, выдохнула и вернулась за кафедру.
— Да, Финн, можешь объяснить нам, кто такие участники конвоев?
— Ну, они, это… что-то делали во время войны. У меня дядя тоже был в конвое… Он рубит… дрова.
— Дрова?
— Да, он спускается в подвал и рубит дрова.
Фрекен Хенриксен принялась рассказывать о трагической судьбе участников северных конвоев, но без особого успеха у слушателей: нам уже до чертиков надоели пустопорожние документальные фильмы, вечер за вечером в черном миноре следовавшие один за другим по экранам телевизоров, словно похоронная процессия. Я дал глазам отдых и любовался волосами Тани под голос фрекен Хенриксен; у нее был красивый голос, один из редких взрослых голосов, которые не раздражают. Мамка тоже красиво говорит, но иногда слишком пронзительно. Марлене говорит спокойно и с одной и той же интонацией, будь то дождь или снег. У Яна голос слишком тонкий. Кристиан говорит как радио, а у матери Фредди I голос такой, что на второй минуте любому человеку каюк. Так я думал, сидя за партой и заглядываясь на длинные волосы Тани, они были будто река блестящих чернил, я склонился над партой, чтобы вдохнуть их запах — смесь цветов и бензина, никто не пахнет так, как Таня, и ни у кого нет голоса прекраснее, жалко только, что она им почти не пользуется; мало того, она им так редко пользуется, что все время сидишь и думаешь — скажи хоть что-нибудь, девочка, мне ужасно хочется слышать твой голос! И я еще ничего не сказал о голосе Линды, потому что думать о ней у меня не было сил. Приятный голос фрекен Хенриксен добрался тем временем до героя войны Лейфа Ларсена, и, естественно, рассказ ее плавно переключился на холодную войну, из-за которой все мы обязаны оборудовать в подвале бомбоубежище с железной дверью, которую не открыть детям младше двенадцати лет, мы живем в атомный век, после чего она вернулась к Желтому, Красному и Синему, и я вижу, что Фредди I не терпится добавить, что Синий любит показывать девочкам свою белку. Но сегодня даже Фредди I контролирует все свои органы, даже Фредди I задела судьба Желтого, Красного и Синего.
Со звонком я встаю из-за парты одновременно с Таней, задеваю ее локтем, и меня дергает током, и я говорю «извини», благо, за лето я научился у одного своего друга манерам, и тут же отчего-то вспоминаю Живоглотку как предупреждение о том, что жизнь бывает опасна для жизни — и как только человек выдерживает?
— А где ты была? — спрашиваю я, и, как ни странно, мой голос звучит совершенно нормально.
— Что? — говорит она, не произнося ни звука. Мы с ней сидим на одном квадратном метре уже три года минус месяцы ее отсутствия, а обращаюсь я к ней впервые, так что странно было бы, если бы мы оба не чувствовали себя не в своей тарелке; но мне удается повторить свой вопрос.
— В Румынии, — отвечает она.
Я ничего не слыхал прекраснее.
— Бухарест, — быстро выстреливаю я и выдаю еще несколько ценных сведений о Румынии. — Это вроде за железным занавесом?
— Каким занавесом? — растерянно бормочет Таня, хмуря брови. А поскольку я не в состоянии подробнее определить, что это такое, я просто иду рядом и мечтаю о Румынии.
— Ты оттуда?
— Нет, я отсюда.
— А зачем тебе надо было туда?
— К родственникам, — говорит она.
— Так это они оттуда?
— Угу.
Я уж подумывал превзойти самого себя и сказать, что и я тоже отсюда, но мы уже вышли на школьный двор, было совершенно невозможно продолжать разговор на глазах у всех, но и завершить его было непросто. И тут как издевка судьбы к нам подошел Фредди I и грубо спросил, о чем это мы разговариваем; Таня тут же потупилась и осторожненько отступила в сторону стайки девчонок, органично влиться в которую она когда-нибудь, очевидно, мечтала.
В последние дни Фредди I обрел определенную популярность благодаря стальным шарикам и фингалам, которые тем временем пожелтели и приобрели будничный вид; над Фредди I тоже довольно долго висела опасность быть переведенным во вспомогательный класс, так что ему было что сказать по этому поводу, во всяком случае, он ощущал насущную необходимость заявить, что все это несправедливо.
— Думаешь? — спросил я с сомнением.
— Да, потому что сразу во вспомогательный класс не поступают.
— Нет? А почему?
— Потому что сначала нужно пойти в нормальный класс. А потом уж учитель видит, дурак ты или нет. И только тогда переводят во вспомогательный.
Так что и тут все сводилось к тому, что я давеча услышал от Эльбы, а именно, что именно мамка и была застрельщицей всей этой катавасии, что она не только санкционировала бессердечное решение, принятое представителями школы, но и сама просила об этом.
Домой я шел вместе с Линдой и ее новой подружкой по имени Йенни, крупной, молчаливой, со странно прямой спиной; одежда у нее была тщательно застегнута на все пуговицы, а ранец она несла так, будто состояла на военной службе.
— А где двойняшки? — шепнул я.
Линда сделала вид, будто не слышит, зато спросила, почему я ее провожаю. Но мне требовалось выяснить кое-что, и этот новый альянс меня не устраивал, пусть даже Йенни и походила отчасти на женский вариант Фредди I. О чем они говорили, я тоже не понимал, потому что если уж они открывали рот, то чтобы пробубнить что-то себе под нос, улыбаясь в пространство, будто вступили в союз беззвучных. И когда мы миновали участок голубой глины, раскинувшийся словно блестящий кровянистый волдырь на утраченных Желтым, Красным и Синим территориях, я оторвался от них, я переживал, что поступил правильно, но вышло нехорошо, и от этого чувства даже бег не помогал, но я все равно бежал и думал и о Тане, которая вдруг оказалась слишком близко, и о сестре, которая, насколько я мог судить, постепенно, но безвозвратно скатывается в глазах людей в категорию чудиков.
Едва я ступил в квартиру, как попал под смерч. Во-первых, мамке позвонили в обувной магазин, что не разрешалось, а кроме того я назвал Линду и ее одноклассников идиотами. Она никогда не слыхивала ничего подобного, и чтобы я, изо всех людей, и так далее, и тому подобное…
Но я был к этому готов.
— Ты сама ее туда записала, — холодно сказал я и посмотрел на нее с чувством, доселе мной не испытанным, но, однако, тоже составлявшим часть меня. Она же, вместо того чтобы начать оправдываться, сразу же сломалась; но меня подобным было уже не пронять.
— Но Финн, ты же видишь, какая она!
Нет, я вовсе не видел, какая-такая Линда, и так и сказал.
— Ты слепой что ли? — не унималась она.
Я повторил:
— Ты сама ее туда записала.
— Но ты что, не понимаешь что ли, что если бы не… если не…
— Что «если не»?
— Если бы не это, то ей пришлось бы ходить в другую школу.
Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, куда она метит.
— Липперн? — недоверчиво прошептал я; так называлась спецшкола совсем в другом конце Турсхова. У нас, детей, о ней говорили, что это хлев, тюрьма и виварий вместе взятые, это было пожизненное клеймо.