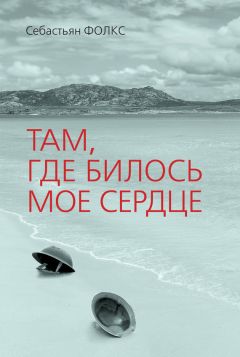Вскоре к разговору подключилась Магда, так что к тому моменту, когда официант позвал нас в обеденный зал со старинными люстрами, все формальности были уже соблюдены и мы общались как давние приятели.
Обедающая публика вела себя шумно, даже очень. Все были в форме с соответствующими знаками отличия, но оживленный гомон и смех говорили о том, что здесь про субординацию не вспоминают.
Выпивки всегда бывает мало, хотя тут имелись и вермут, и пиво. И виски для офицеров. Заказали рыбу и прочие дары моря, fritto misto, к этому пара ложек ризотто, еще был салат из цикория и красного латука. В последний раз я ел рыбу дома в Англии, а у этого… гм… ассорти вкус был странноватый. Кто бы мог подумать, что всех этих морских гадов я когда-нибудь стану есть по доброй воле?
Выпив вина, все стали очень разговорчивыми. Лили рассказала еще о своей семье, о хороших друзьях, о том, что с детства мечтала стать актрисой. И даже училась в нью-йоркской театральной школе.
— Труднее всего давались задания по сценическому движению и пластике. Причем самым трудным было как раз не двигаться, а просто стоять. Представляете? Одна наша девочка, Элла Сомерли, оказавшись на сцене, мигом вживалась в образ. И никаких выразительных поз и движений, да она почти и не двигалась по сцене, казалось, что она вовсе и не играет. Но именно она была лучше всех нас. Это как-то даже удручало.
Дональд продолжал отвешивать ей комплименты и в пылу галантного красноречия заявил, что ей еще не поздно начать актерскую карьеру. Его сценические познания, насколько мне было известно, ограничивались постановками Шекспира в пределах школьной программы и одним из фарсов Жоржа Фейдо, на который наших ребят несколько раз возили в Эксетер.
Моего друга спасла Магда, предложив сыграть в некое подобие «фантов». По правилам игры полагается передавать друг другу апельсин, прижав его подбородком к шее, без помощи рук. Кто первым фрукт уронит, тот должен исполнить любое приказание. В разгар вечера подобные дурачества в офицерском клубе были не редки. Мне показалось, что в глазах Луизы промелькнула тревога, но вот она на пару секунд опустила взгляд, потом на лице появилась эта ее улыбка, и все стало хорошо. Начали мы с вермута, продолжили пивом, а десерт сопроводили ликером «Стрега».
На эту хрень с апельсином мы согласились из учтивости, ведь Магда с таким азартом объясняла правила. Дональд начал, передав апельсин влево, Луизе. У него неплохо получилось: отведя в сторону руку с сигаретой, он притиснул апельсин к плечу Луизы, и та, повернув голову, смогла его перехватить. Теперь была моя очередь.
Уткнувшись лицом в шею Луизы, я почувствовал себя неотесанным варваром. Из-за правил смешной детской игры позволить себе учудить такое. И в то же самое время (когда пальцы легонько коснулись ее плеча и я вдохнул запах ее шеи и волос) я понял, что противиться бесполезно: все предрешено. Я судорожно сглотнул, и дернувшийся кадык едва не выбил фрукт из-под моего подбородка. Я все сильнее краснел, неудержимо, уже не из-за стыда перед Луизой, а потому, что боялся: все догадаются о моих желаниях. Несмотря на смятение, апельсин я все-таки удержал и повернулся к готовой принять эстафету Магде. Слава богу, голова у меня была низко опущена, поэтому я ни с кем не сталкивался взглядом.
Избавившись от апельсина, я поднял случайно оброненную салфетку, достал сигарету, постучал ею о портсигар, уминая табак, потом охлопал карманы, ища зажигалку. Все это позволило мне целую минуту не поднимать глаза. А когда я их поднял, выяснилось, что сестры смотрят совсем не на меня, а на то, как Дональд неуклюже пытается забрать апельсин у Лили. В конце концов злосчастный плод с глухим стуком упал на стол, Дональда объявили проигравшим.
Наши дамы стали обсуждать, какой ему назначить штраф. Лили настаивала, чтобы он съел апельсин, прямо с кожурой и косточками. Луиза попросила его спеть неаполитанскую песню, Магда — поцеловать канадскую медсестру, сидевшую за угловым столиком. Я предложил рассказать всем присутствующим в зале, чем хорош автомобиль «Хиллман-Уизард», по-итальянски, разумеется. В конце концов дамы смилостивились и разрешили сделать выбор ему самому. Дональд выбрал песню.
Я-то думал, что он, как школьник, встанет на стул и вполголоса напоет какой-нибудь куплет. Но мой друг стремительно (мы не успели его остановить) направился в дальний конец зала и сел за рояль, крышка которого была уже поднята.
Сначала прозвучали первые аккорды Первого концерта Чайковского, этим Дональд хотел привлечь внимание публики. Затем, выждав несколько секунд, он пропел три куплета из «Санта Лючии». Я никогда ее не слышал, но был покорен мелодией, которую не смог испортить даже блеющий тенорок моего друга. Была в этой мелодии фольклорная безыскусная напевность, что-то очень знакомое, перекликавшееся со смутно помнившимися каждому из нас колыбельными.
Дональд встал, близоруко щурясь, под дружные аплодисменты. Момент для завоевания публики был подходящий: люди обрадовались неожиданному представлению и поскольку не слишком еще набрались, были в благодушном настроении. Дональд сыграл еще американские песни «О, Шенандоа» и «Мой старый отец», они пользовались большим успехом на концертах, которые когда-то устраивались в «малом зале» моего колледжа, и только после этого вернулся за столик.
К роялю стали подходить и другие посетители, а мы покинули клуб. Дональд снова рулил, теперь уже по серпантину вниз, к берегу. Артист наш всех настроил на песенный лад. Каждый напевал что-то свое, сразу было понятно, кто что любит. Луиза — арию Мими из «Богемы», очень выразительно, но ее голосок почти заглушался ревом мотора. Лили — епископальный гимн, а Магда — песенку про генуэзского рыбака, насколько я понял, довольно скабрезную.
Когда подъехали к pensione, я предложил пойти поплавать, но Лили сказала, что уже слишком холодно. Луизу как самую проворную послали наверх за бутылкой, припрятанной в буфете. Остальные остались ждать в спускавшемся к морю садике, обнесенном оградой.
Примерно через час мы с Луизой сидели на песке, привалившись спинами к стволу дерева. Мы с ней сбежали от остальных.
А война… что война… в тот момент мы были от нее на безопасном расстоянии.
Из Анцио мы отбыли в мае, мой батальон вошел в Рим, где нас приветствовал тщеславный и заполошный генерал Кларк. Американец так торопился первым войти в Рим, что упустил целую армию противника[27]. Между тем западное побережье Италии, от Салерно до Рима, оказалось заложником военных игрищ. Сначала его бомбили союзники, потом отступающие немцы. Ходили слухи, что они успели заминировать много домов в прибрежной части Неаполя. Рыболовецкие суда долго не выпускали из порта, и оголодавшим людям приходилось клянчить или воровать у оккупантов крохи еды. В городе было полно шпионов, доносчиков, сутенеров и иностранных солдат, которым частенько нечем было заняться. И только молитвенные песнопения, доносившиеся из немногих уцелевших церквей, напоминали о нормальной жизни, которая, казалось, больше никогда сюда не вернется.
Состоялась высадка в Нормандии, и Второй фронт все-таки открыли, теперь все выглядело так, что мы начали, наконец, брать верх в Европе. Но впереди нас ждали месяцы, а то и годы сражений. Немцы это вам не итальянцы: они не станут покорно драпать и спасать свои шкуры. Они предпочтут залить все Апеннины своей баварской кровью, усеять их своими перемолотыми в мясорубке войны костями. И каким станет мир после этих побоищ?
Мы знали, что пройдут долгие годы, прежде чем мы получим ответы на множество риторических пока вопросов. И в то же время нам кружила голову возможность ненадолго забыть про войну. Отпуск ведь. Вот такие противоречивые чувства обуревали меня и ее, когда мы сидели на песочке. И никакой канонады. Это давало ощущение покоя, свободы.
— На сколько тебя отпустили? — спросила Луиза.
— На две недели. Потом медкомиссия. Определят, годен ли к строевой.
— А твоя рана? Она серьезная?
— Думаю, что все обошлось. Давай не будем об этом. Как твои друзья, родственники? Есть погибшие?
— Нет. Нам повезло. Кузен был ранен. Это все.
— Действительно повезло.
— Скажи, а что ты делаешь, когда они в тебя стреляют?
— То есть?
— Ну… когда ты знаешь, что надо драться, снова и снова рисковать жизнью.
Я рассмеялся.
— Мы молимся.
— Все-все?
— Все-все. Протестанты, католики, иудеи, буддисты. Каждый молится.
— А как же атеисты?
— В окопах атеистов не бывает.
То, что мы тайком сбежали от остальных, волей-неволей превратило нас в сообщников и сразу сблизило. Уж и не помню, о чем именно мы говорили, по-моему, мы оба особо ни во что не вникали. Но хорошо помню, что в каких-то обыденных мелочах часто совпадали. «Я тоже люблю инжир»; «Конечно! Арии у Пуччини просто чудо»; «Желтый цвет для платья как-то не очень» и тому подобные откровения, как будто ты только что все это про себя узнал. Чем обыденней был предмет обсуждения, тем с большим удивлением мы обнаруживали, что даже в этих пустяках как бы заодно. Наверное, нас несколько смущала тривиальность разговора, его несоответствие тому, что вершилось. Нам хотелось уйти от повседневности, хотелось, чтобы разговор стал отражением завязавшихся глубинных уз.