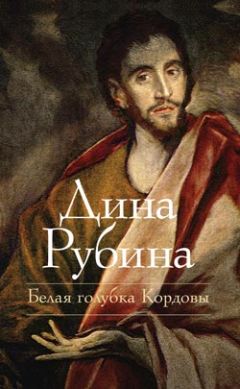Да, именно: составить скрупулезный план и выверить его по минутам. Как там, в известном романсе: «уймись, безнадежное сердце»?
Войдя в двери отеля, он пересек холл и направился к лифту, продев локоть в раму (позвольте предложить вам руку, мадам) и привычно обшаривая карманы. Ключ он никогда не отдавал на стойку.
— Сеньор… э-э… послушайте, сеньор! Двести одиннадцатый номер!
Не дозвавшись, девушка-дежурная выскочила из-за стойки, торопясь удержать его до того, как опустится кабина лифта.
— Сеньор… вас дождались вчера эти двое мужчин?
Он смотрел на нее, не отвечая.
Спокойно! Двое мужчин могли быть и жаждущим пообщаться Хавьером с каким-нибудь его приятелем, и кто угодно из участников конференции. Всем известно, где ты обычно останавливаешься.
— Вас вчера вечером спрашивали двое мужчин… Потом они поднялись и минут через десять опять спустились… Записки не оставили. Я спросила, что передать, они сказали — ничего, и ушли.
— Как они выглядели? — спросил он.
— Ну… — она задумалась, добросовестно силясь припомнить посетителей. — Они выглядели… никак! — и удивленно посмотрела на него сквозь модные очечки. — В таких обычных куртках, обычных кепках… Среднего роста оба.
— Я тоже среднего роста, — перебил он ее. Опустилась кабина лифта, створки дверей разошлись. Пусто…
— На каком языке они говорили?
— Нормально… ой, простите! — по-испански.
— Без акцента?
Она была смущена этим резким допросом и чувствовала себя почему-то виноватой.
— Да… н-нет… без акцента.
Створки лифта опять сошлись.
— А я, — спросил он, — я говорю с акцентом?
— У вас очень хороший испанский, сеньор.
— Но акцент все же есть?
— Небольшой, сеньор…
— Благодарю вас.
Он кивнул ей, нажал на кнопку и вошел в кабину лифта.
В его номере побывали. И побывали так, чтобы он не усомнился, позволив себе по рассеянности не заметить визит гостей. Никаких бесчинств: просто все личные вещи переставлены местами.
Они даже в ванную сунулись. Флакон «Лёкситана» стоял теперь на крышке туалетного бачка. Лагерное остроумие…
Хорошо, что некоторые вещи он всегда оставляет в камере хранения отеля. Сейчас там лежали туба с аукционными картинами и сверток с досками подрамников.
Надо во что бы то ни стало правильно растолковать это послание неизвестно от кого.
Он вышел на балкон. Пегая, влажная, запятнанная лишаями плесени черепица толедских крыш еще таяла в седой утренней тени, и только кафедральный собор уже красовался первым пурпурным накатом еще низкого солнца, чей одинокий луч брандспойтом бил в прореху синей тучи.
Грянул звонок за его спиной. Черт! Черт бы побрал эти оглашенные вопли всех телефонных аппаратов во всех старых отелях!
Он выждал три рокочущих пулеметных очереди, затем подошел к телефону.
— Профессор… — нежно проговорили в трубке. — Ты так рано убежал.
— Пилар! — крикнул он с облегчением и с неожиданным смятением, перехватившим ему горло. Неужели она так задела его? — Пилар, Пилар… моя радость… корасон[25]… Ты так крепко спала, а я уже должен был…
Как хорошо, что он не оставил ей денег. Хотя девочка очень в них нуждается. Поборолся, поборолся с собой, и — не оставил… Он потом найдет способ переправить ей, потом, когда утихнет в ее памяти сегодняшняя ночь двух сирот.
— Только не думай, что я звоню выцыганивать у тебя еще свидания! — запальчиво проговорила она. — Нет, подожди, не перебивай! Просто я проснулась и дозвонилась до Хесуса, насчет этого художника, твоего токайо[26]… Ну, слушай. Он действительно имел отношение к Эль Греко и работал в его мастерской, хотя сам родом был из Кордовы, и, похоже, появился здесь после каких-то преследований. Но дело не в этом. Он был ему родственником.
— Родственником?! Но Грек в Испанию попал совершенно одиноким.
— …со стороны жены. Я имею в виду эту девушку, Херониму де Лас Куэвас, мать его сына, на которой Доминикос вроде бы официально не был женат.
— Да, там ведь с ней какая-то загадочная история…
— Ничего загадочного. Она была еврейкой.
— В смысле… крещеной, как все марраны?
— Э! Хесус говорит, не все так просто. Ты ведь знаешь, кто такие криптоиудеи — те, кто продолжал тайно исповедовать свою религию?.. Так вот, этот Кордовера, который тебя интересует, приходился ей не то двоюродным, не то сводным братом. И Хесус — ты слышишь? — он, конечно, любит парадоксальные версии, но он утверждает, что на основании некоторых косвенных данных в архиве можно предположить, что Грек со своей таинственной Херонимой сочетались браком секретно, причем по еврейскому обряду.
— Сомневаюсь. Шестнадцатый век, разгул инквизиции… Их обоих зажарили бы на костре, как поросят.
— Тем не менее. Хесус надыбал какие-то расписки торговцев, выданные как раз Саккариасу Кордовера, в получении денег за большую штуку белого шелка с кистями, с золотыми нитями, а также расписку от мастера по серебру, кстати, тоже крещеного еврея, по имени Раймундо Эспиноса, за изготовление серебряных изделий… Я не совсем поняла, что это доказывает, надо тебе поговорить с Хесусом. Запишешь его телефон?
— Конечно, амор мио[27]… Диктуй.
И пока она диктовала цифры, он задумчиво и неподвижно смотрел на то, как неуклонно поднимается в тучах солнце, выпирая то в одном, то в другом месте тонкого серого слоя — так плод ворочается во чреве матери, прокатывая перламутровые шары по внешним покровам своего обиталища, словно пытаясь ощупать внешний мир изнутри. Так и солнце ощупывало мир из-за облачного покрова, находя все новые лазейки для того, чтобы выплеснуть жгучие языки желтого ослепительного света на колокольню собора, на его стрельчатые окна и драконий хребет остроконечной крыши.
Какая разница — кем был этот Кордовера. И какое значение имеет — женился Грек на своей еврейке или жил с ней в грехе. Оставим Хесусу его страстные разыскания. Если б девочка знала, насколько ему сейчас не до расписок, не до инквизиции и криптоиудеев… Не подскажет ли вездесущий и широко осведомленный Хесус — кто вчера вечером вломился в мой номер?
Кто сидел на моем стуле и пил из моей чашки?
— К тому же тебе вообще будет интересно с ним поговорить, — звучал в трубке милый хрипловатый голос Пилар. — Потому что в архиве еще имеются два письма к Кордовере от его сыновей-близнецов.
— Каких близнецов?
— Ну, вот. Проснулся. Близнецов, сыновей его. И один из них, знаешь, тоже твой токайо. Тоже — Саккариас. Второй — Мануэль. Письма странные, с какого-то острова в Карибском море. И писаны не на испанском, а на другом языке… Хесус говорит, что это может быть ладино… ну, такой язык испанских евреев, вроде идиша, только основа — старо-кастильский, с добавлением древнееврейских и тюркских слов. Он собирается дать перевести эти письма какому-то специалисту в Мадриде, но уверяет, что и сейчас понятно, что эти два братца были пиратами.
— Что-что?!
Она засмеялась:
— Видишь, сколько забавного ты от меня услышал. Да, погоди, пока не забыла. Отчего Хесус думает про пиратов: в этих письмах дважды упоминаются инициалы М.К.Э. Хесус уверяет, что это наверняка Моше Коэн Энрикес, гроза испанских торговых караванов, знаменитый пират, сефард, потомок изгнанных, который плавал на кораблях голландской Ост-Индской компании и мстил инквизиции и испанской короне за гибель семьи… По времени все совпадает, и Хесус уверен, что эти ребята, близнецы, плавали с Энрикесом. К тому же в письмах вверху каждой страницы есть знак: рисованный от руки галеон.
— Галеон? Ты сказала — галеон?
Почему со дна его памяти всплыло иссохшее лицо смертельно больного дяди Сёмы? Втянутые щеки, длинная редкая седина библейского патриарха на подушке… Почему он вспомнил эту седину при слове «пират»? Надо бы разобраться и как-то рассортировать весь этот бред. К тому же, как всегда, путается в измученной памяти вечный его кошмар: наследный кубок со своим корабликом. Ах, не до того, не до того мне сейчас, дорогой ты мой! Плыви себе восвояси…
— Я обязательно позвоню Хесусу, — терпеливо пообещал он, обводя комнату обыскивающим взглядом.
Собраться надо, вот что. Собраться и сматываться отсюда, как можно скорее. Значит, не напрасно ему чудились вчера преследователи. Черт бы побрал эти законы, по которым нельзя прихватить с собой на мирную зарубежную прогулку невинного дружка «Глока». Моего малютку-пацифиста.
— Саккариас… — проговорила девушка, помолчав. — Не думай, что я стану допекать тебя. Только скажи — мы еще увидимся, хотя б когда-нибудь?