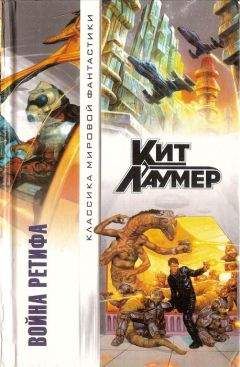Федор решил пройтись пешком, от поликлиники до дома было недалеко, и погода стояла хорошая. Хотелось не спеша подумать о доставшем его бытии. Он, вдруг поймал себя на том, что ему ничего не хочется, не хочется идти домой, выпить не хочется, секса уже давно не хочется, даже повышения пенсии не хочется. С друзьями видеться и то стало в тягость, ну сколько можно обсуждать мировые проблемы и урожаи на даче? Самые горячие новости – это кто и от чего помер. При встрече простой вопрос «Как дела?» задаешь с опаской, потому как в ответ можно услышать развернутую формулу анализа мочи и деморализующий диагноз. После таких разговоров начинаешь прислушиваться к организму. Дома тоже не сахар, личной жизни никакой, из чувств остались только раздражение и усталость. Федор был типичный подкаблучник и права голоса не имел, семья жила в квартире родителей жены, чем его и попрекали по нескольку раз на дню. Со временем он научился не замечать тирады о своей никчемности и бесполезности, но легче от этого не стало. Дома его терпели.
Так, за горькими размышлениями, Ушанкин незаметно оказался в квартире. Из кухни вышла жена, брюнетка невысокого роста, худая, с заостренными чертами лица, эдакая карикатурная стерва.
– Я же просила тебя принести картошку из гаража. Да хоть какой-то прок от тебя будет?!
Программа дала сбой. Вместо того чтобы надеть тапки, пройти в комнату и обиженно уткнуться в книжку, он решительно отодвинул жену в сторону и шагнул по коридору.
До него неожиданно дошло, что она просто дура, истеричная дура, и больше ничего. Федор отчетливо понял, что ни секунды больше оставаться здесь не сможет и не желает. Мысль в голове еще окончательно не вырисовалась, а руки уже тянули с антресолей чемодан. Он аккуратно уложил свои немногочисленные вещи, зачем-то достал парадную форму и кортик. Подумав минутку, уложил в чемодан и ее. Достал из секретера аккуратно свернутый целлофановый пакет с документами, проверил. Все на месте – и украинский паспорт, и российский, и пенсионное удостоверение. Российский паспорт Ушанкин завел недавно, все-таки в России пенсия побольше, и вообще на всякий случай. Вот случай-то, видимо, и наступил. Придавив коленом чемодан, Федор защелкнул замки. Чемодан был надежный, с металлическими уголками коричневого цвета, купленный еще в пору лейтенантских мытарств.
Жена возилась на кухне и не обращала никакого внимания на его сборы, уверенная в том, что это просто взбрык и вообще этот тюха даром никому не нужен.
В прихожей, накинув плащ, Федор огляделся. Никаких сомнений, никакого сожаления он не почувствовал. Прощаться не стал, просто вышел и прикрыл за собой дверь. Вся его прежняя жизнь осталась там, за дверью.
Москва встретила вавилонским столпотворением Курского вокзала. Отвыкший от шума и суеты, Ушанкин растерянно озирался, прижав к груди свой старомодный чемодан. Он олицетворял островок девственности в этом вертепе.
Ему нужно было добраться до станции Савелово в Тверской губернии. Электрички до Савелова ходили дважды в день.
В вагоне Федор сел к окну. Москва быстро осталась позади, мелькали деревья, будки смотрителей, с обязательной клумбой простеньких цветов и картофельной грядкой, и полуживые деревеньки. Через два с половиной часа он стоял на перроне в Савелово, после времени, проведенного в Москве, это был рай. Никто никуда не бежал, не шумел, люди вели себя степенно и приветливо. Даже телеграфный столб стоял как-то уверенно и спокойно, с чувством собственного достоинства. Купив у бабульки стакан семечек, Федор пошел искать попутку, до родной деревни с гордым названием Городок оставалось верст тридцать.
За недорого подкинул веселый мужичок на раздолбанных жигулях. Расплатившись, Федор вышел у дома с табличкой «Администрация ПГТ Городок». Надо же, теперь это не деревня, а поселок городского типа с гордой аббревиатурой ПГТ.
Городок располагался на берегу Волги и был местом историческим: основанный в 1366 году тверским князем Михаилом Александровичем, так во времени и потерялся. В описании 1844 года в деревне значится двадцать три избы, три постоялых двора, питейный дом, пятеро жителей шили сапоги на дому, трое – шапки, и двенадцать уходило на заработки в Москву. В жизни Городка мало что поменялось, разве что срубов стало больше, и пили теперь не в питейном заведении, а по домам.
Кирпичных зданий в поселке было три, и все культовые – здание администрации, церковь и магазин. Соответственно, и уважаемых людей было трое – глава администрации, батюшка и продавщица. Были они людьми не случайными, попадья приходилась главе администрации племянницей, а продавщица была замужем за его старшим сыном.
Федор подошел к дому. Облезлая вагонка, наглухо забитая большим «хером» дверь, заброшенный палисадник. С соседнего двора раздался старушечий голос:
– А не Федька ли ты Ушанкин будешь?
Федор обрадовался: не забыли.
– Я, баб Тань, кому ж еще быть.
– Господи, радость-то какая! Надолго ты, Феденька?
– Навсегда, баб Тань, навсегда.
Соседка подошла к забору.
– Случилось чего?
– А как же, случилось. Поумнел вдруг!
Баба Таня принесла гвоздодер.
– Давай, Феденька, отворяй. Как после похорон заколотили, так никто и не заглядывал.
В доме был порядок, все на своих местах, как при покойных родителях, только толстый слой пыли говорил о том, что здесь давно никто не жил. Соседка помогла разобрать вещи, долго любовалась мундиром, после все аккуратно развесила в шкафу.
– Ну ты, Феденька, устраивайся, если чего надо будет, ты говори, не стесняйся.
Чтобы в деревне распространилась новость, никакого интернета не нужно, баба Таня справлялась на отлично. Через полчаса все в поселке знали, что Ушанкин дослужился до больших чинов и был на флоте начальником, вернулся навсегда и мужик почти свободный.
Решив, что сначала нужно перекусить, Федор двинул в магазин. Люди здоровались с ним, слегка кланяясь. Ушанкин расправил плечи и зашагал уверенней. Это в Севастополе отставник – никто и звать никак, а здесь фигура, можно сказать, предмет гордости всего поселка. Самооценка начала решительно подниматься.
В магазине Федор купил дорогой водки и всякой закуски. По селу прошла вторая волна новостей – Ушанкин еще и зажиточный. А и вправду, здесь со своей пенсией он мог не только сносно жить, но еще и откладывать.
Федор выпил, расслабился. Как же здорово, когда никто тебя не дергает, не тащит из рук бутылку, не корит. Оказывается, от простого застолья можно получать удовольствие.
Вечером похолодало. Надев отцовскую телогрейку, Ушанкин решил навестить родителей. Такой благодати, как на деревенском кладбище, нет нигде. Здесь лежали и дедушки с бабушками, более ранние могилки не сохранились. Федор убрал сорняки, подправил оградки и присел на скамью. Думал он о своей не самой счастливой жизни, как будто и жил не там, и занимался не тем. Думается на кладбище по-особенному, не о мелочах, а о вещах серьезных, и многое, что раньше было непонятно, становится ясным и простым. Вот ведь она, Родина, и жить нужно здесь, и работать, и детей поднимать. И нет никакой малой или большой Родины, Родина – она одна. Она здесь, где похоронены предки, где каждое дерево тебе знакомо, где старики на лавочке знают тебя с детства и моют тебе кости. Это и есть Родина, а все, что за плетнем, – это государство. И еще вопрос, стал бы ты за него жизнь отдавать. А за Городок, за могилки, за соседей своих, даже за соседского кота Прошку – не задумываясь!
На носу были майские праздники, и баба Таня, справедливо решив, что мужику самому несподручно, организовала у Ушанкина субботник. Мужиков не было, пришли одни бабы. С мужиками вообще была проблема, за исключением немногих зарабатывавших в Твери и в Москве, взрослое мужское население можно было поделить на три группы: сидящие, спившиеся и неопределившиеся. С сидящими проблем не было, мужики в Городке были серьезные и если садились, то по серьезным статьям, надолго. С алкашами ситуация тоже была ясная, все знали, чего от них ожидать, и дружно прятали от них спиртное, налить пьянице считалось делом зазорным. Морока была с неопределившимися.
Федор перекапывал палисадник и поглядывал на женщин. Наблюдать за работой добровольных помощников было одно удовольствие. Вот ведь бабы, никакого командира им не нужно, каждая своим делом занята, моют, чистят, скоблят, и ведь все на совесть, от души, для себя бы так не старались. И все весело, без натуги, с песней. Тоня Щукина сняла занавески, собрала полотенца и понесла к себе постирать. Ушанкин помнил ее еще сопливой девчонкой, а теперь нате-ка – тридцатипятилетняя привлекательная женщина.
К вечеру в доме все сияло, Антонина принесла чистые, отутюженные занавески.
– Федор Ильич, давайте я сама повешу, вы не справитесь.
Она встала на табуретку и начала крепить занавеску к карнизу.