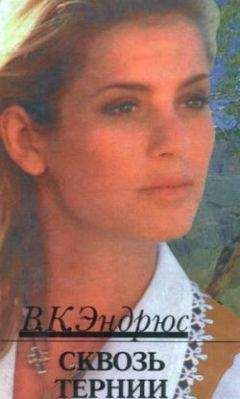Папа строго посмотрел на меня:
— Не убьешь. И не думай, что ты умнее нас с мамой. Мы с твоей мамой противостояли и не таким, как ты — десятилетний дерзкий ребенок. Помни это.
А вечером, когда я лежал в постели, я услышал, как мама с папой кричат друг на друга. Кричат так, как я еще ни разу в жизни не слышал.
— Как тебе пришла в голову мысль послать Барта на чердак, Кэтрин?! Неужели ты не понимаешь? Неужели нельзя было приказать ему оставаться до моего прихода в своей комнате?
— Нет! Это не наказание. Он любит свою комнату. У него в комнате есть все, что нужно для удовольствия. А вот чердак — это не удовольствие. Я сделала то, что была обязана.
— Обязана сделать? Кэти, или ты не понимаешь, чьими словами ты сейчас говоришь?
— Ну что ж, — ледяным голосом проговорила мама, — разве я не предупреждала тебя: я — сука, которая всегда заботится только о себе.
Они повезли меня к врачу на следующий же день. Посадили там в кресло и приказали ждать. Нас позвали. Мама с папой вошли со мной. За столом сидела женщина. Выбрали бы, по крайней мере, мужчину. Я сразу возненавидел ее за то, что ее волосы были такие же черные и блестящие, как у мадам Мариши на старой фотографии. Ее белая блузка вздымалась на груди так сильно, что я отвернулся, чтобы не видеть.
— Доктор Шеффилд, вы с женой можете подождать за дверями, мы с вами поговорим позже.
Я с тоской глядел вслед уходящим родителям. Никогда еще я не чувствовал себя так неуютно, как тогда, когда мы остались с ней наедине, и она посмотрела мне в глаза своими добрыми глазами, скрывающими темные мысли.
— Тебе бы не хотелось быть здесь, правда? — спросила она.
Я ничего не ответил.
— Мое имя — доктор Мэри Оберман. Ну и что?
— Посмотри, здесь на столе есть игрушки… может быть, ты что-то выберешь?
Игрушки… я же не младенец.
Я метнул на нее взгляд. Она отвернулась, и я понял, что она почувствовала неловкость.
— Твои родители говорят, что ты любишь играть роль другого человека. Наверное, у тебя нет товарищей по играм?
Конечно, нет. Но это не ее дело. Идиотка, я был бы последний простак, если бы рассказал ей о Джоне Эмосе, и что он мой лучший друг. Когда-то моим другом была бабушка, но она предала меня.
— Барт, конечно, ты можешь продолжать молчать, но этим ты только принесешь еще большую боль тем, кто тебя любит. Но ведь и тебе сделали больно, тебе больнее всех. Твои родители хотят помочь тебе. Поэтому они привели тебя сюда. Ты должен сам себе помочь. Расскажи, что тебе приносит радость и счастье. Расскажи, что тебя тревожит, расстраивает. И нравится ли тебе твоя жизнь.
Я не скажу ей ни нет, ни да. Ничего не стану говорить. Она начала объяснять, что люди замкнутые, которые ни с кем не делятся своими проблемами, могут себя разрушить эмоционально.
— Ты ненавидишь своих родителей? Не стану отвечать.
— А своего брата Джори ты любишь?
Да, с Джори все в порядке у меня. Просто было бы лучше, если бы он не был таким уж ловким и красивым. Был бы, как я.
— А что ты думаешь о своей приемной сестре Синди? Может быть, мой взгляд ей все рассказал, поэтому она что-то записала в тетради.
— Барт, — начала она снова, отложив ручку. Глаза ее глядели по-матерински добро. — Если ты отказываешься отвечать, то у нас не остается иного выбора, как положить тебя в госпиталь, где много врачей, а не один, будут пытаться восстановить твое психическое здоровье. Никто там плохо с тобой обращаться не будет, но это совсем не так приятно, как быть дома. Там у тебя не будет своей комнаты, своих вещей; своих родителей ты будешь видеть раз в неделю, да и то на час. Не думаешь ли ты, что гораздо лучше будет нам договориться и соединить наши усилия? Что случилось с тобой этим летом, почему ты так изменился? Вспомни.
Нет, не хочу, чтобы меня запирали в сумасшедшем доме с кучей придурков, которые больше и наверняка злее, чем я, … и к тому же, я не смогу тогда навещать Джона Эмоса и Эппла…
Что мне делать? Я вспомнил строчки из дневника Малькольма, и как он умел только делать вид, что поддается на уговоры, но сам всегда делал только то, что хотел.
Я начал плакать, сказал, что обо всем сожалею, и делал это так искренне, что даже сам поверил. Я сказал:
— Это все из-за мамы… Она любит Джори больше, чем меня. Она все время возится с Синди. У меня никого нет. Мне одиноко и плохо.
Она все приняла за чистую монету и после разговора со мной сказала родителям, что нам надо с ней продолжать видеться в течение года.
— Он очень застенчивый мальчик, — она улыбнулась и тронула маму за плечо. — Но не обвиняйте ни в чем себя. Барт запрограммирован на самонеудовлетворенность, и даже если вам кажется, что он ненавидит вас, это означает, что он недоволен собой. Поэтому ему кажется, что все, кто любит его — глупцы. Это болезнь. Такая же, как физическая болезнь, и даже хуже. Он пока не может найти себя.
Я прятался и подслушивал, и был страшно удивлен ее словами.
— Он любит вас, миссис Шеффилд, почти религиозной любовью. Боготворит. Поэтому он ожидает, что вы во всем будете совершенны, в то же время зная, что он недостоин вашей любви. И, как это ни парадоксально, он как раз страстно желает, чтобы все ваше внимание и вся ваша любовь были направлены только на него.
— Но я все же не понимаю, — проговорила мама, облокачиваясь на папино плечо, — как он может одновременно любить меня и желать сделать мне больно?
— Человеческая натура очень сложна. Особенно сложен ваш сын. В нем постоянно борются два начала: доброе и злое. Он, может и бессознательно, знает об этой борьбе — и нашел любопытное решение. Он индифицирует свое темное, злое начало со стариком, которого называет Малькольм.
Оба — папа и мама — застыли в ужасе с раскрытыми ртами.
Перед тем, как прочесть вечернюю молитву и лечь спать, я пробрался в мое заветное место в холле, откуда было слышно все, о чем говорят родители в спальне.
— Мне сегодня показалось, что мы все еще на чердаке и никогда, никогда оттуда не выберемся… — говорила печально мама.
Какую связь имел чердак со мной и с Малькольмом?
Только ту, что и его, и меня наказали, заперев на чердаке?
Я тихо пробрался обратно в мою комнату и лег, напуганный разговором о моем «бессознательном» и страшась самого себя.
Под подушкой у меня всегда теперь лежал дневник Малькольма. Я впитывал в себя его страницы день и ночь. И становился все сильнее, все мудрее.
СУМЕРКИ СГУЩАЮТСЯ
Мама с папой сидели в гостиной следующим вечером перед камином. Незамечаемый ими, я скрючился возле двери на полу, думая, что они не вспомнят обо мне. Мне было неприятно думать о том, что я обманываю их, но иногда лучше знать наверняка, чем гадать.
Сначала мама молчала, а потом стала говорить о визите к психиатру.
— Барт ненавидит меня, Крис. Он ненавидит и тебя, и Джори, и Синди. Думаю, что и Эмму тоже… но презирает он только меня. Он не может простить мне того, что я люблю не только его.
Он притянул ее к себе и положил ее голову к себе на грудь. Так они и сидели.
Потом они неожиданно решили пойти проверить, спит ли Барт или убежал, и я был вынужден поспешно спрятаться в ближайшую нишу, чтобы меня не заметили.
— Он обедал? — спросил папа, когда они выходили из гостиной.
— Нет. — Она сказала это, будто хотела, чтобы Барт спал, боясь, что когда он не спит, проблем не избежать.
Но они умудрились разбудить его, и, не отвечая ни слова на их притворные извинения, он поднялся и проследовал в столовую.
Даже если мальчик не разговаривает много дней, а только мрачно и злобно на всех смотрит — семейный обед есть семейный обед.
Но этот обед был уж слишком мрачен. Даже Синди пребывала в непонятном раздражении. Ели все без аппетита. Эмма тоже не разговаривала, лишь подавала на стол. Даже ветер, который до сих пор дул неустанно, затих, и листья на деревьях повисли, как побитые морозом. Внезапно похолодало, и холод навел меня на мысль о смерти, о чем Барт твердит неустанно.
Я думал о том, каким образом мама с лапой уговорили Барта пойти к психиатру. Кто мог разговорить его, если он так невероятно упрям? А папа так занят и без Барта — но тот, конечно, не видит, как его любят и как о нем заботятся.
— Пошел спать, — сказал Барт, поднимаясь из-за стола, не поблагодарив, не спрося разрешения встать. И ушел. Мы остались сидеть, будто застыв. Нарушил тишину папа:
— Барт сам не свой. Очевидно, что-то так его беспокоит, что он даже не ест. Надо добраться до истины.
— Мама, — предложил я, — я думаю, если ты пойдешь к нему, посидишь сначала с ним подольше; и потом некоторое время не будешь обращать внимания на нас с Синди, то это подействует.
Она странно, долгим взглядом посмотрела на меня, будто не веря, что это так просто решается. Папа поддержал меня, сказав, что, по крайней мере, вреда это не принесет.
Барт притворялся, что спит; это было ясно. Мы с папой встали на полпути к двери его комнаты, чтобы он не мог нас видеть. Мы приготовились защитить маму. Папа положил предупреждающе руку мне на плечо и прошептал: