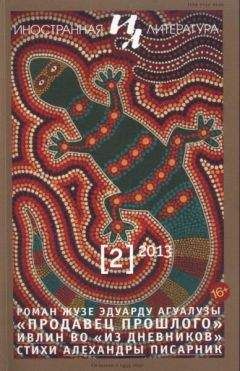Вера Ивановна и ее случайный пражский знакомец стояли недвижно и смотрели на березовый крест.
— В шестьдесят девятом тут студент сжег себя, протестовал против войск стран Варшавского договора, против оккупации Чехословакии сжег себя, — начал старик. — А потом в том же году, в годовщину коммунистической революции, тут же это сделал еще один студент.
— С именем таким смешным, детским каким-то, Заяц, что ли? — улыбнулась Вера Ивановна.
— Ян Зайиц. Теперь тут всегда цветы. Кстати, ваши Национальный музей наш расстреляли. Смотри, Вер, а это Чехия, Моравия и Силезия. Видишь, какие мы помпезные?
— Ну.
— За это вы нас и расстреляли. Советские танкисты в шестьдесят восьмом приняли музей за парламент и обстреляли его, вон туда-ка посмотри, там видно.
С перекрестка Новее место и влтавских набережных у моста Легии путь один: с проспекта можно ехать хоть куда, а оказался на мосту — теперь только прямо или вниз. Пройдя прямо, Вера Ивановна остановилась. Внизу плавали прогулочные суда, люди на них казались чуточными, они смотрели по сторонам, пальцем тыкали в сонную архитектуру. Вере Ивановне внезапно захотелось в Россию, где сталинки прячутся за новостройками, а под фонарями вьются озабоченные мошки и подшабашивающие практичные старухи сжимают в газетке безнадежные георгины и возвращаются в темные дворы, выбрасывают цветы и усаживаются на скамью под досыхающую черемуху. Завтра — первое сентября.
В российской осени заключена особая тоска. И дело не в увядающих деревьях и внезапной оккупации лета, это тоска другого рода. Тоска, при которой люди закрываются дома по причине неведомого страха. Они боятся не сквозящего ветра, не кучево-дождевых облаков, просто привыкают к мысли о грядущей зиме, в которой тоже нет никакой коварности.
И если деревенская осенняя тоска незаметна на фоне бесконечной работы и топки милосердной печи, то городская, и особенно московская, с каждым днем становится все более непроходящей. Объяснений тому немного, возможно, дело все в храброй памяти предков, не задумывавшихся над своими тревогами. В москвичах она напрочь перекрыта памятью об особенном вчерашнем дне, а в деревне, где дни различают только по христианским праздникам, она еще живет.
Родителей своих Ритка почти не знала — мать умерла от тоски по какому-то завсегдатаю холостяцких пивнушек, а отец считался умершим от гриппа. Переживаний она не испытывала, Вера Ивановна умело заполняла собой пространство и жалости к Рите не допускала даже со стороны старух с темных лавочек.
Рита спустилась в подвал ресторана. Грузный неприбранный охранник вытащил изо рта зубочистку с кровяным краешком и посмотрел на часы.
— Да не опоздала я, чё смотришь! Пиши без пятнадцати.
Пробежав мимо желтого кабинета с опрокинутыми в кресла начальниками в гладких рубашках, Рита зашла в раздевалку. Завсегдашний запах прокисшей рыбы мешался с запахом соуса черных туфель, в углу, зажатый серенькими шкафчиками, с ладони слизывал рисинки, оставшиеся от чужого обеда, Адик.
— Народу много сегодня?
— Ну, так, на первом человек десять, на втором и третьем чуть поменьше.
Лакированные ножки стола провалились в зеркальный пол, на потолке отражались вилки, в вилках отражались лица гостей, одни были с большими улыбками, другие — с большими ухмылками. Но были и третьи, чьи лица вроде бы хотели изобразить что-то особенное, но не могли, поскольку они ели.
Работала Рита тут недавно, со второго дня отъезда в Прагу Веры Ивановны. Когда кормилица все ж таки осуществила свою мечту, холенную с шестнадцати подростковых лет, и уехала глядеть на узкие улочки и пестрые торговые лавки, внучке ее ничего не оставалось, как начать мечтать о высшей благосклонности, Божьей или же Витечкиной, ведущего с телевидения. Знакомство их также, как и с остальными витечкоподобными, не было примечательным, если только чуть более интеллигентным, чем с предыдущими гостями ресторана. “Главное, — говорили местные официантки Вика и Лена, — гордо спинку держи и красней посмущеннее, чтоб как будто влюбленная ты, ну, и сразу не соглашайся ни на что, чтоб доступной не казаться”.
По вечерам в ресторан приходили известные гости, которых конечно же узнавали все и улыбались им все, но виду никто не подавал, дабы не беспокоить и прослыть самым тактичным персоналом. Заказы их, как правило, выполнялись быстро и учтиво, блюда не путались и выплывали в правильном порядке, ну а в конце, если у Риты хватало смелости и она выполняла все по Викиным и Лениным рекомендациям, она даже оказывалась в гостях у именитых и сиживала чьей-нибудь спутницей напротив официальных жен. Одну из них она запомнила особенно, поскольку звали ее так же и возраст их отличался всего лишь в пару месяцев. Причесанная на манер Елизаветы, с еле заметными зелеными полосочками под ресницами, законная жена Марго сидела напротив Ритки и вежливо улыбалась. Взгляд ее отрывался от собственного отражения в зеркале всякий раз, как муж или же гость мужа к ней обращались. Односложно, но всегда грациозно она отвечала, а потом быстро-быстро схватывала руку мужа и гладила ее до тех пор, пока окружающие не начинали верить в ее простосердечие и непритворность. Муж в это время рассказывал гостям историю их знакомства, романтичную для Марго и отдающую трупным запахом для Ритки:
— Вот эта вот девка семнадцати лет отказала мне, мэтру телевидения, ради какого-то долговязого козла!
— Харбактерная… — отстраненно заметил Риткин спутник Виктор.
— Сучка, а! Я за ней полтора года потом следил, мне ребята мои уже говорят, давай мы тебе ее с кляпом в глотке привезем, ну или в бочке кусковатую, успокоишься и будешь дальше с женой жить, а я ведь ни в какую. Пусть, говорю, повзрослеет пока, сама потом приползет.
— Так и случилось?
— Так и случилось! Так вот, господа, предлагаю нам выпить за госпожу удачу, божью милость и человеческие желания!
— Браво, дорогой, браво, Маргош, за тебя и за Саньку!
Потом речь заходила о знакомстве Виктора и Ритки, Рита вдруг наливала полный бокал и предлагала еще один тост за Марго.
Пражской приятностью Вера Ивановна признавала вечернее сидение на террасе, когда на балконах начинали скрипеть люльки, где укачивали благодушных чешек и неслезливых младенцев, когда город оживал мангалами и засыпал рынками. Вера наполняла пивом красную в белый горох кружку с огромной сквозящей трещиной и попивала маленькими глотками так, как пьют в России только рябиновую настойку. Засыпать было рано.
В одно из таких сидений Вере Ивановне звонила Рита — звала неотлагательно в Россию, куда вскоре должен был приехать бабушкин брат. Дядя Миша был человеком, перешедшим вброд войну и репрессии, оттепель и оранжевую революцию. На Украине у него оставался взрослый сын, и время, он считал, пришло со всеми прощаться — “девяносто два года, как-никак”. Приехал рано, самолетом не стал, поскольку “за последние несколько лет грохнулись их не один десяток, а с железной дорогой ничего сделаться страшного, кроме захвата террористами или таможенниками, не сможет”. Выгрузил из болоньевой сумки банки с маринованной кукурузой и кусок индюшатины, присел на диван и задремал. Проснулся только к вечеру, когда индюк, заточенный в кастрюлю, уже кусками плавал среди домашней лапши.
— Ну как там у вас обстановочка, дядь Миш?
— Да помаленьку справляемся, я вроде хвораю тихо, Юрочку не беспокою сильно.
— А-а…
— Вы-то тут как, не буду супу.
— Мы, а чё мы, все как всегда.
— Работаешь?
— Ну, типа того…
— Кем работаешь?
— Обслуживаю…
— Чего обслуживаешь?
— Да чего только не обслуживаю, а Юра чем занимается?
— Да он все в политику лезет, про революцию нашу слыхала?
— Маленько только, хох, вкусно!
— Помешался он совсем на всех этих делах, чужим словам все вторит: “Я, — говорит, — желаю, чтобы наш главный не забывал про великую миссию, какую Господь на него возложил”. А чего на него Господь возложил… “Он должен ломать молотом скалу, разрушая нынешнюю систему… Да только ему не самому ту скалу придется ломать — мы ему поможем”. И все заладил…
Туфли
— Разрешите к ней зайти, мы быстро. Она неделю после операции у нас, впервые одна в городе.
— Не положено после операции.