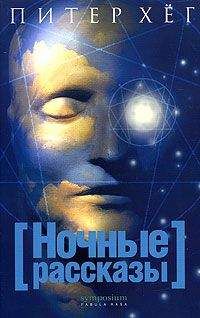Арктический музей. Там был куплен кораблик для Исайи. Я достаю из глубокого кармана квитанцию смотрителя. Она безупречно составлена, что является еще одним чудом, принимая во внимание то, что он слеп. Внизу — подпись. Разобрать ее невозможно. Но он поставил печать. То, что на печати, прочитать можно.
На ней написано: «Андреас Фине Лихт. Доктор философии. Профессор в области эскимосских языков и культуры».
Я застываю на месте, пока не пройдет шок. Потом я думаю, не пойти ли назад.
В конце концов я продолжаю свой путь. Пленка — копия. А когда охотишься, иногда бывает полезно обнаружить себя, остановиться и помахать стволом ружья.
Я прихожу почти вовремя. Маленький синий «моррис» припаркован на бульваре Андерсена, возле Тиволи.
Механик похож на человека, который ждал, а за время долгого ожидания передумал слишком много тяжелых мыслей.
Я сажусь в машину рядом с ним. В машине холодно. Он на меня не смотрит. На его лице, как в открытой книге, я читаю боль. Мы сидим, глядя прямо перед собой. Я не работаю в полиции. У меня нет никакой необходимости добиваться признания.
— Барон, — говорит он в конце концов, — он помнил. Он не забывал.
Я сама думала о том же.
— Б-бывало, он по три недели не появлялся в подвале. Когда я был маленьким, то за три недели в летнем детском садике почти совсем забывал своих родителей. Но Барон делал разные мелочи. Если я возвращаюсь домой, а он играет на площадке, он останавливается. И бежит ко мне. И просто проходит немного рядом со мной. Как будто чтобы показать, что мы знаем друг друга. Только до двери. Там он останавливается. И кивает мне. Чтобы показать, что он не забыл меня. Другие дети забывают. Они любят кого угодно и забывают кого угодно.
Он закусывает губу. Мне нечего добавить. Слова — слабое утешение в горе. Но что еще есть в нашем распоряжении?
— Поехали в кондитерскую, — говорю я.
Пока мы едем по городу, я не рассказываю ему о своем посещении стоянки 126. Но я рассказываю ему о последовавшем за этим визитом звонке Бенедикте Глан из телефона-автомата.
Кондитерская «La Brioche d'Or» находится на Стройет, поблизости от Амагерторв, на первом этаже, через несколько домов от магазина Королевского фарфорового завода.
Уже при входе нас встречают фотографии с изображением рогов изобилия диаметром в метр, которые доставлялись к королевскому двору при помощи подъемного крана. На лестнице находится выставка самых незабываемых пирожных со взбитыми сливками, которые выглядят так, будто их покрыли лаком для волос, и теперь они могут стоять так до скончания времен. Входную дверь охраняет фигура боксера Айуба Калуле из темного шоколада в натуральную величину, сделанная, когда он стал чемпионом Европы, а дальше длинный стол, на котором стоят такие прекрасные пирожные, что кажется, они могут все, ну разве что не могут летать.
Потолок украшен взбитыми сливками штукатурки, под потолком — люстры, а на полу — ковер, толстый и мягкий, того же самого цвета, что и низ слоеного торта, пропитанный шерри. За маленькими столиками, покрытыми белыми скатертями, сидят изящные дамы и запивают второй кусок sachertorte пол-литровыми чашками горячего шоколада. Чтобы успокоить посетителя, ожидающего счет, и несколько смягчить страх его встречи с напольными весами в ванной, на возвышении сидит пианист в парике и с отсутствующим видом играет попурри из Моцарта, которое становится весьма неряшливым, когда он одновременно пытается подмигнуть механику.
В одном из углов в одиночестве сидит Бенедикта Глан.
Некоторые люди, кажется, не имеют ничего общего со своими голосами. Я хорошо помню, как сильно была удивлена, когда я впервые оказалась лицом к лицу с Уллорианнгуаком Кристиансеном, который в течение двадцати лет читал новости по гренландскому радио. Слушая его голос, можно было представлять себе встречу с Богом. Он же оказался обыкновенным человеком, лишь немногим выше меня ростом.
У других людей голос и внешность так точно соответствуют друг другу, что, услышав раз, как они говорят, узнаешь их, увидев. Я проговорила с Бенедиктой Глан по телефону минуту и знаю, что это она. На ней синий уличный костюм, она не сняла шляпу, она пьет минеральную воду, и она красивая, нервная и непредсказуемая, как породистая лошадь.
Ей около 65, у нее длинные каштановые волосы, частично убранные под шляпу. Она держится прямо, она бледна, у нее агрессивный подбородок и трепещущие ноздри. Если я когда-либо и встречала сложного человека, то это она.
Время, которое требуется, чтобы пересечь зал, это все, что есть в моем распоряжении для принятия некоторых окончательных решений.
За несколько часов до этого я звоню ей из телефонной будки у станции Энгхаве. Голос у нее глубокий, хрипловатый, почти ленивый. Но где-то под этим спокойствием, как мне кажется, я слышу кузнечные мехи. Или же это фата-моргана. После часа, проведенного на стоянке 126, я уже больше не доверяю своему слуху.
Когда я сообщаю ей, что меня интересует ее работа в Берлине в сорок шестом году, она совершенно определенно отказывается от встречи.
— Об этом даже не может быть и речи. Это совершенно исключено. Ведь речь идет о военных секретах. И вообще, это было в Гамбурге.
Она говорит так уверенно. Но вместе с тем чувствуется легкий оттенок жестко сдерживаемого любопытства.
— Вас беспокоят из военного городка Сванемёлле, — говорю я. — Мы готовим публикацию об участии Дании во Второй мировой войне.
Она резко меняет тон:
— В самом деле? Значит, вы звоните из Сванемёлле? Вы, наверное, из женского корпуса?
— Я по образованию историк. Я редактирую эту публикацию для Исторического архива вооруженных сил.
— Неужели! Женщина! Это очень приятно. Я думаю, что я должна сначала поговорить об этом с отцом. Вы знаете моего отца?
Не имею чести. И если я хочу успеть познакомиться с ним, я должна поторопиться. По моим подсчетам, ему должно быть под девяносто. Но вслух я этого не говорю.
— Генерал Август Глан, — говорит она.
— Мы бы очень хотели, чтобы это издание стало сюрпризом.
Она это прекрасно понимает.
— Когда вы могли бы найти возможность поговорить со мной?
— Это затруднительно, — говорит она. — Мне надо посмотреть в мой еженедельник.
Я жду. Мне видно мое отражение в стальной стенке автомата. Я вижу меховую шапку. Из-под нее выглядывают темные волосы. В обрамлении волос — глупая улыбка.
— Может быть, у меня будет время во второй половине дня.
Я вспоминаю это, проходя по залу кондитерской, глядя на нее. Дочь генерала. Подруга военных. Но хрипловатый голос. То, как она смотрит на механика. Вспыльчивый человек. Я принимаю решение.
— Смилла Ясперсен, — говорю я. — А это капитан и доктор философии Питер Фойл.
Механик замирает.
Бенедикта Глан лучезарно улыбается ему:
— Как интересно. Вы тоже историк?
— Один из самых замечательных военных историков Северной Европы, — говорю я.
Его правый глаз подергивается. Я заказываю кофе и малиновое пирожное — ему и себе.
Бенедикта Глан опять заказывает себе минеральную воду. Она не хочет пирожного. Она хочет полностью владеть вниманием доктора философии Питера Фойла.
— Можно многое вспомнить. Я ведь не знаю, что именно вас интересует.
Тут я делаю решительный шаг:
— Ваше сотрудничество с Йоханнесом Лойеном.
Она кивает.
— Вы с ним говорили?
— Капитан Фойл — его близкий друг.
Она лукаво улыбается. Ну, еще бы! Один неотразимый мужчина знает другого неотразимого мужчину.
— Это было так давно.
Кофе приносят в большом стеклянном кофейнике. Он горячий и ароматный. Это встреча с механиком столкнула меня по наклонной плоскости употребления ядовитых опьяняющих напитков.
Он не притрагивается к своей чашке. Он еще не свыкся со своим академическим званием. Он сидит, разглядывая свои руки.
— Это было в марте сорок шестого. Британские ВВС после немцев разместились в доме Дагмары на Ратушной площади. Я узнала, что они ищут молодых датчан и датчанок, знающих немецкий и английский. Моя мать была из Швейцарии. Я училась в школе в Гриндельвальде. Я двуязычна. Я была слишком молода для участия в Сопротивлении. Но в этом я увидела возможность сделать все-таки что-нибудь для Дании.
Она обращается ко мне. Но все адресовано механику. И вообще, похоже, большая часть ее жизни была обращена к мужчинам.
Она хрипловато смеется.
— Если уж быть совсем откровенной, то у меня был друг, младший лейтенант, который отправился туда за полгода до этого. Я хотела быть там, где он. Женщинам должно было быть по меньшей мере двадцать один год без трех месяцев, чтобы получить разрешение там работать. Мне было восемнадцать. И я хотела уехать тут же. Поэтому я прибавила себе три года.
Может быть, думаю я про себя, ты тем самым также получила легальную возможность убежать от папы-генерала.