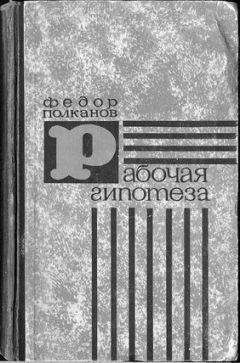– Будешь писать, сестренка?
– Пока жива… А встретимся в университете.
Он прыгнул в вагон на ходу и долго смотрел назад, на перрон. Он ни о чем не думал: думать он стал позже. После этого были окопы, бомбежки, танки, атаки и контратаки, потом снова госпиталь, снова фронт. Но всюду его догоняли треугольнички Валиных писем. Понемногу забылись боли, забылся и страх смерти, который в Свердловске так его донимал. Тогда он действительно был от смерти на волосок, и если бы не заботливые Валины руки… Он почему-то забыл о врачах, сделавших для него, конечно, уж больше, чем Валя, он не узнал бы, наверно, многих из них в лицо, но Валю забыть не мог. Не мог забыть и поцелуй, единственный, прощальный. И было странно, почему он его помнит, ведь во время войны всякое бывало.
Но вот война кончилась. Леонид приехал в Москву и встретил Валю на биофаке: начинающий медик превратился в начинающего биолога. Она училась на первом курсе, Леонида восстановили на втором, но свободное время они проводили вместе. Штурмовали студенческую столовку, сидели в читалке, бегали по этажам, работая агитаторами на избирательном участке. Даже в комсомольское бюро факультета избрали обоих сразу, хоть и шутил Степа Михайлов:
– Не следовало бы в бюро разводить семейственность…
Леонид таскал Валю с собой на футбол, она его – в клуб, на танцы. Давно заметил Громов, что, сменив гимнастерку на скромное платьице, стала сестренка Валя поразительно женственной и очень приятной. Но все же слегка удивлялся: что это мужчины пялят на нее глаза? У него было наоборот: вдалеке от Вали, на фронте, тянуло к ней больше, теперь же он сомневался: нет, это не любовь, уж очень спокойно все, уж очень просто.
Всякий биолог в душе немножко бродяга. Половить рыбу, грибы пособирать, пошляться по лесу – от этого ни один не откажется. Во все походы отправлялись вместе. Как-то попали в «семейную» компанию: на привале разбилась она на парочки.
– Видно, судьба, – сказал Леонид и обнял Валю за талию.
Она легонько отстранилась. Потом Громов долго помнил удивленно поднятые длинные брови…
Набеги на «сиротскую» комнату Леонида Валя делала регулярно.
– Суровая мужская чистота, – говорил он, показывая рукой на свой относительный порядок.
– В один прекрасный день ты не придешь на факультет – не сможешь продраться сквозь здешнюю грязь.
– После твоих уборок ничего не разыщешь, – ворчал он, хотя в душе был доволен.
Однажды во дворе факультета встретились два потока. Первокурсники летели на всех парах занимать места в ботанической аудитории, навстречу степенно шли в зоологичку студенты второго курса. Столкнувшись с Леонидом, Валя остановила его.
– Получила официальное предложение, – сказала она смеясь. – Володя Токин предлагает выйти за него замуж.
– И ты, конечно, согласна?
– Да. Но требуется твое разрешение. Как старшего брата!
– Ну, я подожду тебя выдавать. Приданое не готово.
Они разошлись каждый на свою лекцию, но шутливый разговор заставил задуматься: сколько можно тянуть? Да и нужно ли?
Прошла зима с ее изнурительной сессией и скоропалительными каникулами, прошел и короткий для биологов весенний семестр. Близилась летняя практика. Как-то в читалке, одурев от изучения низших растений, Леонид взял газету и среди объявлений о защитах диссертаций отыскал знакомую фамилию: Р. П. Мелькова. Вот как, жива-здорова, и фамилия девичья! Особых волнений прочитанное не вызвало. Он подтолкнул локтем Валю, шепнул:
– Моя первая любовь… Диссертацию…
– Мир праху ее! – Валентина в данный момент блуждала в дебрях зоологической систематики и явно не поняла, в чем дело.
Тогда он прикрыл газетой ее учебник, показывая пальцем на объявление.
– Всплыви на поверхность хоть на минуту… Первая, говорю, любовь.
– А кто вторая? Я со Свердловска слышу о первой… Нашлась, значит.
Зашушукались соседи – они мешали. Пришлось замолчать, но Валентина тянула уже его за рукав – пойдем в коридор.
То, что произошло через минуту, было вовсе не неожиданным.
– Явишься на ее защиту?
– Может быть. А почему бы и нет?
Валентина стояла, опустив ресницы, а когда подняла их, он увидел слезы.
– А я-то, дура, уж сколько лет… – И она убежала вниз по лестнице.
Вечером Леонид позвонил ей в общежитие, но ее не было. Не нашел он ее и назавтра, после экзамена. А когда через два дня Валя прошла мимо него по коридору, не оглянувшись, он разозлился, ибо вины за собою не числил.
Летнюю практику первый курс проходил в Москве, выезжая за город для сбора материала в природе. Леонид же со вторым курсом уехал в Звенигород.
Чувствовал он себя отвратительно. Прескверная практика! Сиди, кромсай лягушек. Да и на кромсании лягушек не сосредоточишься, ибо острят вокруг напропалую:
– Что, Громов, пригорюнился? Вовка Токин, что ли, покоя не дает?
Но о Вовке Леонид и не вспоминал. Просто почувствовал, как не хватает ему Вали.
В пятницу вечером возле ожившей после чьих-то стараний радиолы начались танцы. Обычно равнодушный к ним, Леонид на этот раз вертелся и притопывал весь вечер: ведь завтра суббота! А назавтра сразу после занятий выбежал на шоссе. Проголосовал, остановил машину, прыгнул в кузов. И хоть именно в этот день должна была состояться защита Раисы, ехал он к Валентине.
Когда Громов пришел в общежитие на Стромынку, было около одиннадцати. В комнате, где жила Валя, слышались голоса. Он постучал, вошел. Первокурсники – девчата и парни – болтали, смеялись. Валя сидела у стола с книжкой, рядом томился Токин. Валя Леонида не заметила: мало ли кто входит?
– Трофимова, к тебе, – сказал кто-то из девчат.
Она увидала, покраснела. Сразу все поняла.
Встала, помедлила секунду, потом решительно подошла к нему, обняла, закинула руки на шею. Он был серьезен, даже строг. Взял обеими руками ее голову, отклонил назад, поцеловал в губы.
– На сборы тебе две минуты. Такси у подъезда, а денег, сама знаешь… Где чемодан? Едем домой.
Собираться помогала вся комната. А когда уходили, девичий голос сказал:
– Вот и улетела наша Валюха! Кто следующий?
– Из твоей исповеди я делаю такие выводы: ты низкопробнейший донжуан, которому многие бросались на шею и который никого не скидывал, – так Елизавета резюмировала его рассказ. – Ну, а теперь последний аккорд: столь же подробно об этой захватчице, о Раисе. Только не подумай, что имею на тебя виды!.. Вовсе нет. Ратую за сестер по несчастью, за старых дев. Холостяк в наши дни подобен зайцу из Подмосковья: на него одного зарится десяток охотниц. И стародевическая солидарность вздергивает меня на дыбы, когда замужние протягивают к холостяку свои лапы. Лично же для меня ты ничто. Надеюсь, это ты понимаешь?
– О да! Настолько хорошо понимаю, что, пожалуй, не буду тебе больше ничего рассказывать.
Леонид сунул в рот папиросу. Казалось бы, следовало привыкнуть к манере разглагольствовать, свойственной Елизавете, но привыкнуть сложно: «стародевическая солидарность», «имею виды», «низкопробнейший донжуан» – все это проглотить трудно. Нужно будет всерьез заняться ее воспитанием!
– Не расскажешь? Как знаешь! Тогда проваливай, кури на крылечке, а я лягу спать. Тебе же советую: не забудь поплакать на сон грядущий о потерянной навеки Райке!
А назавтра:
– Ты в детстве кем хотел стать?
– Биологом.
– Фу, проза! Я мечтала сделаться разведчицей. В тылу врага. И сделалась бы, будь я в войну немного постарше. Представляешь, какой простор для мистификаций?
– О да! – отвечает Громов. – О да! Беда только одна: твой лисий хвост быстро бы примелькался, и немцы бы тебя выловили.
– Святая наивность! Хочешь, черненькой стану? Пожалуй, действительно, стану-ка я черненькой.
Громов накрутил на руку ее косу, потянул легонько, заставляя отклонить назад голову, сказал спокойно:
– Убью! Убью, если покрасишься! Волосы – единственное светлое место во всем твоем облике…
– Четыреста тридцать шесть! – обрадовалась Елизавета. – Четыреста тридцать шесть комплиментов. Не пора ль объясниться в любви!
– Четыреста тридцать шесть? Много… Но я подожду. Тысяча наберется – вернемся к этому вопросу.
– Ну что ж! Намечен определенный рубеж – чудненько! Остается вытягивать из тебя комплименты!
Как всегда, как и каждую ночь, Краев сегодня и спал и не спал – лежал и думал, проваливаясь временами в бездну.
Где-то между тремя и четырьмя выбросил он пустую пачку «Казбека», открыл новую. Густой дым стоял здесь, в кабинете, куда выселили его домашние, ибо всю ночь напролет курил он папиросу за папиросой, роняя на себя недокуренные, когда путались мысли, зажигая их вновь и вновь.
Это был не сон – ожидание рассвета.
И вот уже за окном разжижается тьма, выступают из черноты кажущиеся сейчас серыми красные портьеры на двери, в тон им смотрятся и зеленая обшивка кресел и пестрорядье корешков книг на столе – предрассветная выровненность, сглаженное, нивелированное разноцветье. Оно ему по душе, он и сам не объяснит, почему, но оно ему по душе; зубоскалы из противоположного научного лагеря, непомерно разросшегося, уж, верно, сказали бы: общая серость. Вроде как в законе его, верном для тех, кто смотрит издали, абсурдном для всякого, у кого в руках факты.