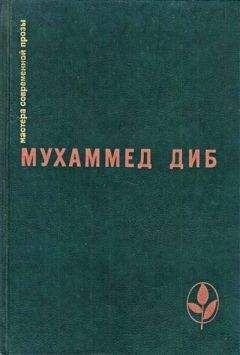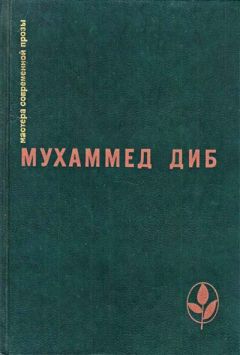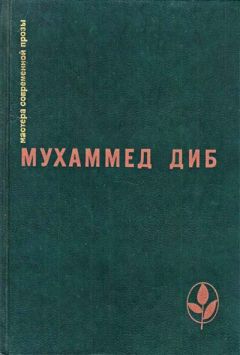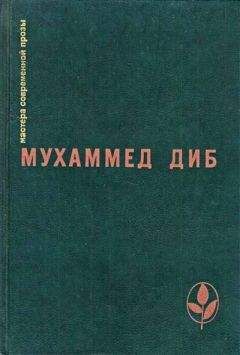Его лицо придвинулось почти вплотную к моему. Я отвернулась, чувствуя себя так, будто из меня выкачали всю кровь. Ни кровинки не оставалось, должно быть, и в лице.
— Мы пойдем, не так ли, госпожа Марта?
Мои губы, мои собственные губы не повиновались мне, отказывались разжаться. И в то же время я видела, что его исподлобья устремленный на меня взгляд по-прежнему подстерегает малейшее мое движение, малейший трепет век, любой невольно поданный знак. Именно так должен он был бы себя вести, если бы хотел разлучить меня с моей душой. Однако, не увидев и не услышав ничего из того, что он, судя по всему, чаял дождаться, он решил заговорить — я по-прежнему ощущала на своем лице его дыхание:
— Он — и мертв? Глупости.
Он снова направлял на меня заостренный взгляд.
— Надеюсь, вы этому не поверили.
Он отнюдь не производил впечатления человека, который бредит. Более того, его слова сопровождались даже едва скрытой иронией.
Тогда я услышала свой голос — притухший, какой-то по-детски робкий, он доносился словно бы из-за стены:
— Нет.
— Правда?
— Правда.
Какое-то время он размышлял. Довольно долго.
— А то я было усомнился.
Я снова услышала свой ответ:
— Нет, нет, клянусь!
— Вы в этом уверены?
— Уверена.
Он только и отозвался:
— А.
Потом он склонил голову и уткнулся лбом в мое плечо. Я застыла. Я попыталась перебороть ощущение, которое заползло в меня, ощущение лицемерного, ядовитого холода. Но не нашла в себе необходимой для этого энергии и воли. Изо льда, и вся была изо льда, неспособная сделать движение, потерявшая всякое воспоминание о той, что звалась Мартой.
Я подняла правую руку, вытянула ее вперед, пальцы мои уперлись в его грудь — все это совершалось как-то независимо от меня самой. Едва я его коснулась, как он отпрянул. Уставился на меня потухшим, безжизненным взором.
Внезапно он увидел меня.
— Почему?
Я отгородилась от него ладонями с растопыренными пальцами. Он попятился еще, незаметно так попятился. И продолжал пятиться, взирая на меня с потусторонней отрешенностью. Отступая и удаляясь еще и еще. Потом на лице его появилась детская улыбка, и сомкнутые на моем сердце тиски сжались, выдавив из меня крик. Я приготовилась увидеть, как мое тело, мое собственное тело рухнет, и оцепенела, все так же держа руки на весу, пытаясь вспомнить что-то — уж и не знаю что, что-то печальное. Но все пересиливал охвативший меня ужас. Он преследовал меня, без всяких усилий прятал от меня это что-то, которое в свою очередь пыталось от него укрыться. Отчаявшись найти, я стала звать:
— Хаким, Хаким.
Я еще помню это отчаяние, вырвавшееся из моей груди, но не имею представления, чтó произошло потом и куда я отправилась. Ведь что-то наверняка произошло, я точно куда-то отправилась, а теперь я вернулась, я снова здесь. Это произошло несколько минут тому назад, но я озираюсь вокруг, ничего не узнавая, словно впервые попала сюда; мой взгляд останавливается на каждом предмете, скользит мимо и снова возвращается к нему, потом к другому, и это по-прежнему моя комната. Но Лабана уже нет. Напряжение отпускает меня. Тут сказать совершенно нечего. Он ушел, но чувство освобождения, которое я испытываю, не приносит никакого утешения.
Я погружаюсь в самые разнообразные мысли и вдруг перестаю воспринимать окружающее, захваченная одной из них. Она так же неожиданна, как и проблеск разума. Мои губы трогает улыбка. Представляю, как я сейчас выгляжу: женщина, которую таинственная победа, необъяснимым образом одержанная ею над столь же таинственным противником, вознесла на недосягаемую высоту над всем, что ей враждебно. Именно так: я защищена неуязвимо. И, как недавно в присутствии Лабана, но на сей раз не от ужаса, я прячу лицо в ладонях. Так жажду продлить это видение, что дрожу всем своим существом, и меня охватывает пожар.
Как ни старалась я его удержать — оно улетучилось! Ускользнуло от меня навсегда, навсегда, вернув меня к моим мыслям, в мою комнату.
Теперь я рассматриваю знакомые предметы обстановки. Каждый из них, освободившись от непроницаемой пелены царившего здесь неистовства, обрел прежнюю осязаемость, вернулся на привычное место. И я говорю себе: он приходил не для того, чтобы помучить меня. Эта мысль возникла во мне внезапно. Так ли, спрашиваю я себя. Но это сомнение сердце отмело быстро. Он не притронулся ко мне, даже не коснулся меня. Я говорю: Лабан. Говорю: мое сомнение.
Усаживаюсь на стул, на котором совсем недавно сидел Лабан. Мысль об этом едва не сдувает меня с места. Потом: «Нет», — говорю я вслух и принимаю позу ожидания, чувствуя, как лицо разглаживается спокойствием. Внезапно пахнуло детством, но нежданный подарок этот тает так же быстро, как и возник, и я вспоминаю тот миг, когда Лабан приблизил свое лицо к моему. Тотчас передо мной возникает Хаким, смеющийся над каким-то его, Лабана, метким словцом. Образ и интонация этого смеха. Его явственность. Я испуганно оборачиваюсь, ищу его по всей комнате. Ищу его и что-то еще, довольно долго ищу. И вижу маленькую девочку, которая изо всех сил обхватила ладошками голову отца, пытаясь добиться его внимания, но тщетно: он разговаривает только с другими. И это я. Гигантских размеров лес вокруг распахивает свои сумеречные крылья и расстилает их надо мной. В конце концов я призывно взмахиваю рукой. Приближается лицо. Это хорошее лицо. Я закрываю глаза. Раз я знаю, кто это, я могу закрыть глаза. Чья-то рука берет мою. О, она крепка: это точно он, моя рука отдается доверчиво. И я напрягаю, высвобождаю глаза. Вижу его лицо, созерцаю его окровавленный призрак. Крик наполняет чью-то грудь, но остается в ней пленником. Это моя грудь. Крик. Этот крик. Я слышала его.
Потом — мысль о Лабане, о том, что он какими-то своими путями может проведать о том, что я видела. И мне вдруг становится страшно. Я съеживаюсь, съеживаюсь до тех пор, пока сердце мое не погружается в неведомую глубину, не скрывается там все целиком, как и моя уверенность в том, что Хаким мертв.
И вот! Вот! Стук в дверь! Трепеща, я распрямляюсь, стою как вкопанная у этой двери, не сводя с нее глаз, и говорю себе: ни к чему было… Потом говорю:
— Войдите.
Си-Азалла говорит:
— Что с вами, мадам? Вы… вы так бледны.
Она не отвечает. Смотрит на меня. Она ожидала увидеть совсем не меня. Она словно бы сомневается в реальности моего существования.
— Вам нехорошо? Садитесь, прошу вас, вам станет полегче.
Какой же я все-таки неотесанный болван. Вовсе не это я должен был сказать. Нет, ты несправедлив, Азалла. Она продолжает молча смотреть на меня. В бархатных ресницах поблескивают, не падая, две слезинки.
Наконец она увидела меня, увидела, что это я. Я подбегаю к ней, беру за руку, пододвигаю стул. Она молча наблюдает за тем, что я делаю. Несогласно качает головой. Я недоуменно поднимаю на нее глаза, совершенно не понимая, что происходит.
— Только не этот стул, — выговаривает она.
Я хватаю другой. Усаживаю ее.
Потом я иду за стаканом и наполняю его водой из кувшина, поставленного для охлаждения на подоконник. Сую стакан ей в руки и заставляю выпить. Она лишь смачивает губы.
Я говорю:
— Ну как, вам получше?
Она утвердительно кивает. Я сажусь на стул напротив нее.
— Не стоит вам оставаться здесь, мадам.
Незначительность производимых мною звуков оставляет воздух в комнате недвижимым и безразличным. Но что-то понуждает меня продолжать, что-то более сильное, чем я.
— Тут вам одиноко, это не тот дом и не тот квартал, что вам нужны. Пока Хаким… Есть другие места, которые подошли бы вам лучше. Вот и доктор Бершиг считает, что вы могли бы…
Незначительность, ощущение тщеты. Что вообще можно сказать этой женщине, не испытывая при этом стыд за себя? Мне стыдно. Стыд охватывает меня все больше, по мере того как я говорю. Что бы я ни сказал. Что бы я ни собрался сказать.
— О, — произносит она.
Еле слышное «О» — вот и весь ее ответ. Саднящий стыд. Но, быть может, именно он придает мне немного мужества.
— Вам бы стоило подумать об этом, мадам. Нет, этот дом, этот квартал не для вас. У друзей доктора есть кое-что там, наверху, что вам наверняка подойдет.
Я не пытаюсь добиться от нее согласия. Просто стремлюсь выразить ей то, что чувствую.
— Собственно говоря, именно ради этого я и позволил себе вас побеспокоить и…
Бесцветным, почти не принадлежащим ей голосом она отвечает:
— Мне здесь не так уж и плохо, я привыкла.
— Во всяком случае, если вам что-нибудь понадобится…
Я умолкаю. Мне хотелось бы быть раздавленным толпой и найти покой под всеми этими топчущими меня ногами. Я высказал все, что должен был высказать, за исключением собственного бессилия. Я все сказал и теперь оглядываю комнату. Предметы — да, и предметы тоже — выражают испытываемую ими неловкость, не щадя меня, упрекая в полнейшей беспомощности. Но молодая женщина держится как прежде. Из того, что я ощущаю, вижу и слышу, это единственное, что есть чистого и безупречного. Словно бы никакая ненормальность и не отравляет атмосферу. Она безмятежна и, судя по всему, никаким вопросом не терзается.