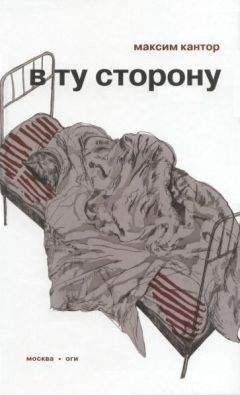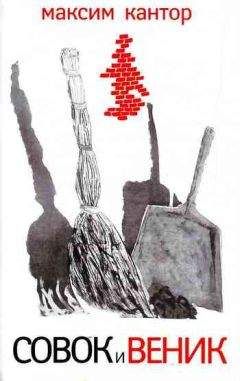Ахмад дождался поезда, где работал проводник Аркадий, — они с Машей прятались около вокзала и выходили к поездам.
— Обратно отвези.
— Билет надо брать.
— Нет у нас билета.
— Помочь не могу. Иди покупай.
Плосколицый человек не сказал на это ничего.
Аркадий спросил:
— Женщина эта тебе кто? Жена?
— Не жена.
— Дочь, что ли?
— Нет, не дочь.
— Документы у вас есть? Совсем никаких нет?
— Ты нас положи в своем купе, — сказал Ахмад.
И не захотелось Аркадию спорить. Он поместил их — всех троих — на верхнюю полку в купе проводника, а товар, который вез из Москвы, отдал в соседний вагон.
Татарчонок сразу уснул, а Маша и Ахмад уснуть не могли — слишком тесно. Ахмад лежал головой к окну, поджав ноги, Маша с татарчонком на груди — головой к дверям. Поезд качало, они терлись друг о друга ногами, ноги затекли, но удобней лечь не получалось.
Свет не зажигали, но, когда поезд проезжал станции, свет фонарей падал в купе и Ахмад видел лицо Маши. К часу ночи проехали Рязань, и Маша сказала:
— Что ты сделал. Человека убил.
— Поживет еще, — сказал Ахмад — Если найдут быстро, то поживет. Русские живучие.
— Зверь ты.
— Лежи тихо.
— Куда едем? Зачем едем? Домой хочу.
— А где твой дом?
— Не знаю.
И снова ехали. Когда подъезжали к станции Потьма, рассвело. Аркадий дал вафли, чай и минеральную воду, и татарчонок не плакал. Днем Маша даже ходила по вагону со своим татарчонком, показывала из окна Самару, рассказывала про Волгу, а Ахмад спал.
Потом ели консервы, взятые Машей из Москвы, и Аркадий опять дал им чаю. Аркадий собирался их сдать пограничникам на станции Илецк, контрольном пункте перед Казахстаном. Приходит поезд ночью, в четыре часа, никакого скандала получиться не должно. После Оренбурга он запер купе снаружи, сказал, чтобы сидели тихо.
В Илецке все вышло иначе, не так, как предполагал Аркадий. Проводник соседнего вагона сдал его товар (антибиотики для казахских и узбекских поликлиник, каждую неделю Аркадий забирал немецкие лекарства в Москве) таможеннику. Пограничники вывели Аркадия на перрон, и сквозь стекло соседнего вагона Аркадий увидел физиономию коллеги, проводника Гены.
— Сам героин возит, — сказал Аркадий, — а я лекарство вожу. Деточкам. Дети у вас тоже, небось, есть? Как без лекарств? Дети болеют.
— Иди давай, Айболит.
Поезд ушел без Аркадия, и, когда доехали до Сары-Агача, пограничного пункта с Узбекистаном, запертое купе проводника никто не досматривал. Еще три часа — и Ташкент. Ахмад поковырял ножом замок, открыл дверь, они вышли.
Простыня в голубой цветочек постелена на диване. Рыхлый бугристый диван, старый, ему уже шестьдесят лет, покупал еще дед Сергея Ильича. Очень ветхий диван, обивка выгорела и порвалась, торчат пружины. Впрочем, пружины не мешали Татарникову. Легкое костлявое тело не примяло ни одной пружины, не смяло ни одного бугра. Татарников лежал, невесомый, на старом фамильном диване и смотрел прямо перед собой. На книжной полке (а он видел книжные полки, переплеты своей старой библиотеки) стояли семейные фото, и Сергей Ильич смотрел на свою маму, на своего отца, на деда — того самого, который покупал диван. А вот фотография деда на даче — семье как раз дали участок, работникам института минералогии выдавали землю, это считалось привилегией — целых шесть соток. Дед был знаменитым минерологом, разрабатывал Урал.
Бланк ушел, Сергей Ильич подремал два часа, проснулся и съел мороженое — жена дала мороженое. Он покорно открывал рот, пока она кормила его с ложки. Было как в детстве, тихо, неторопливо. Луч закатного солнца пришел в комнату, задержался на отклеенном куске обоев, потом двинулся к книжным полкам. И Сергей Ильич следил за лучом.
— Еще мороженого хочешь?
— Пока нет.
Господи, как хорошо. Как спокойно.
Потом пришел Антон, и Сергей Ильич был рад его приходу.
— Лето скоро, — сказал Сергей Ильич. — Еще месяца три будет холодно, а потом и лето. На дачу можно поехать.
— Да, — сказал Антон, — можно поехать.
— На веранде посидеть.
— У вас так хорошо на веранде.
Веранда была крошечной, и сама дачка в две комнаты с пристроенной кухонькой была крошечной. Но Татарникову было счастливо в ней. Подмосковная тягучая тихая жизнь. Он вечерами сидел под слабой лампой на маленькой веранде, читал книжку, сосна шумела над его головой.
— Жить бы да жить, жить да жить, — сказал вдруг Татарников. Сказал это тихо. И повторил еще раз: — Жить бы да жить.
Антон ничего на это не ответил.
— Если бы мне дали пожить еще год, я бы жил очень тихо. Я бы завел аквариум с рыбками. Я бы лежал и долго смотрел на рыбок, как они плавают от стенки до стенки. Аквариум с рыбками. Люблю воду. Можно поместить в аквариум красивых рыбок.
Антон ничего не сказал.
— Но и самая простая речная рыба очень красива. Знаете речных рыб? Умные. Я бы завел головня. Головень — такая хитрая рыба. Я бы разглядывал головня. Тритоны тоже хорошие. Вы любите тритонов?
Сергей Ильич трогал сухими пальцами постельное белье и радовался его тугой крахмальной свежести — в больнице были дурные, дрянные простыни. Левая нога Татарникова высовывалась из-под одеяла, худая белая нога. Антон смотрел на эту ногу — словно отдельно от Сергея Ильича эта белая нога лежала на диване и больной не мог управлять ею. Антон смотрел на большой палец ноги, с длинным кривым ногтем, ноготь был обмазан зеленкой. Зачем врачи намазали палец зеленкой?
— Конечно, рыбы не полюбят так, как собака. Но собака у меня умерла. Знаете, Антон, ведь у меня была собака. А, вы видели мою собаку. Ей было шестнадцать лет. Вот, умерла. И кошка тоже доживает последние дни. Знаете Нюру?
Вошла кошка с болтающимся животом, живот с опухолью обвис и мешал кошке перебирать лапами. Она боком подбиралась к дивану больного, но вспрыгнуть уже не могла, только жалобно кричала и драла когтями обивку.
— Кошка болеет, у нее тоже рак. Бедная, совсем не умеет терпеть, так ее жалко. Бедная Нюра.
Кошка обреченно посмотрела на хозяина.
— Бедная. Пока пес был жив, он ее грел. А я что, даже кошку согреть сейчас не могу. Стыдно.
Собака умерла полгода назад. Поскулила, легла на бок, несколько дней лежала без движения, есть не хотела. И умерла. Татарников закопал ее в саду на даче. И едва умерла собака, как Сергей Ильич понял: пришла пора и ему собираться. Не ошибся. Все в этом мире связано, и нет ничего, что мы могли бы считать недостойным внимания.
— Антон, знаете, мне осталось дня два. Не мог вам не сказать, извините, что расстроил.
— Зачем вы так, Сергей Ильич.
— Жену жалко. Приходит к кровати и плачет. Горько так плачет. Денег нет.
— Так она из-за денег плачет, — не удержался Антон.
— А что вы думаете, деньги — это очень важно. Вон, включите телевизор. Весь мир из-за денег плачет. А ведь ерунда, бумага. Нарисовали бумажек, а мир плачет.
— Мир плачет, потому что его обманули.
— Как можно обмануть мир, что вы, Антон. Мир сам себя обманул, вот и плачет. Вы про это книгу напишите, Антон.
— Вы сами напишете.
— Нет, не напишу. Но вам скажу, что надо написать.
Господи, как ясно и покойно ему думалось. И во рту еще оставался вкус мороженого. И боль не приходила. И рассуждать было легко. Он чувствовал, что счастлив.
— Вы ведь книгу про войну пишите?
— Да, — сказал Антон.
— Напишите так. Причина Первой мировой войны в том, что всем была нужна Вторая мировая, — сказал — и понял, что непонятно сказал.
— Я не понял, Сергей Ильич.
— Ну и ладно, ну и пусть. Не важно, Антон. Никто не виноват. Разве кто-то виноват, что я умираю.
— Вы не умираете, Сергей Ильич. Вы на поправку пошли.
— Да. Конечно. И мир — на поправку. Было нужно легальное неравенство — демократическая война. Вот и все. Вот и все. И никто не виноват.
И опять Антон не понял.
— Но ведь победили фашизм.
— Всем любить друг друга. Как хорошо. Пусть бы старая жена Бланка полюбила его молодую жену. Пусть бедные полюбят богатых, пусть богатые полюбят бедных, пусть больные полюбят здоровых. Милый Антон, вы ведь хотите этого?
— Да, — сказал Антон, — я этого очень хочу.
— Народу много. И не хотят умирать добровольно. Обидно, да?
Антон не понял ничего.
— Столыпин бы сказал: Антон, ангел мой, мне все равно, что делать, чтобы вопрос решить, просто столько народу мы не прокормим! Ну как сто миллионов крестьян прокормить, чем?
— Неужели, — спросил Антон, — никогда не получится по справедливости?
— И чтобы люди не умирали. А жили вечно и вечно любили друг друга. И держали друг друга за руку.
— Да, так правильно.
— И чтобы не было никому больно.