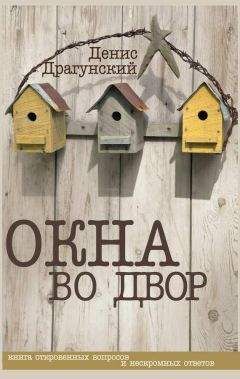А в этой самой тетрадке, рассказывал отец моего приятеля, было записано несколько случаев из жизни покойного, и среди них один особенно замечательный рассказ. Рассказ сам по себе довольно страшноватый – про то, как он – то есть покойный отец отца моего приятеля – пробирался во вражеский – кажется, в колчаковский – тыл. Дело было в Сибири, в какой-то год гражданской войны. И во вражеский тыл его вез на телеге старый крестьянский дед, вез по одному этому деду известной дороге, заброшенной и заросшей, а потом и вовсе без дороги, какими-то распадками и пересохшими речками, и поэтому пришлось бросить телегу и ехать верхом на лошадях, а под конец, когда они уже пробрались, обойдя все посты и авангарды, в самый глухой и безопасный вражеский тыл, вот тогда-то он – то есть покойный рассказчик – на прощанье застрелил деда-проводника, из соображений конспирации, поскольку во вражеский тыл он пробирался не самогонкой торговать, а выполнять особо важное задание, и очень может быть, что в победе над Колчаком есть и его ощутимая скромная лепта. Даже скорее всего так.
Но, продолжал, переведя дух, отец моего приятеля, в этом рассказе брало за душу не это ужасное, честно говоря, событие. В конце концов, гражданская война, партизаны, Сибирь, и вообще мы ко всему привыкли. Нет, брало за душу именно описание, спокойное и подробное, про то, какая была дорога, и как она потом кончилась, и поехали верхом, и про погоду – какое было жаркое лето, и как сильно грело солнце, и дикие пчелы гудом гудели над высокими синими цветами, и как этот самый дед-проводник что-то рассказывал про ульи – наделать бы, мол, ульев, пасек побольше наставить, и люди были бы сыты медом. И про то, как он, удостоверившись по всем приметам, что добрался до безопасного места и дальше проводник не нужен, отпустил его и застрелил в затылок, так как дело было слишком важное, чтобы остался хоть один свидетель. И главное, сказал отец моего приятеля, в этом рассказе не было никаких сомнений и сожалений, что вот, мол, гражданская война и все такое, приходится, и вообще. Нет! Ничего подобного, даже для приличия, в этом рассказе не было. А впрочем, если человек и в самом деле считал, что должен был и вправе был ликвидировать свидетеля в интересах выполнения особо важного задания, – то какие уж тут приличия и запоздалые объяснения? Это бы только испортило рассказ, сухой и тщательный.
Вот, еще раз вздохнул отец моего приятеля, вставая и собираясь выйти из комнаты, но тут мой приятель с неожиданной обидой спросил, что же это отец раньше ему ничего такого не рассказывал, ни про похороны, ни вообще про своего отца, и не показал ни разу эту замечательную тетрадку. На что его отец, очень неприятно ощерившись, ответил, что он – то есть сын – ни разу у него ничего такого не спрашивал. И вышел, небрежно кивнув мне и громко закрыв дверь.
Я тоже собрался уходить, потому что получилось, что из-за меня вроде поссорился мой приятель со своим отцом. Получилось, что отец моего приятеля стал со мной вести откровенные задушевные разговоры, а с сыном, значит, у него таких разговоров никогда не было. Неприятно. Непонятно только, почему именно я должен служить пробным камешком для их семейных дел. И я тут же распрощался, тем более что заходил-то я за ерундой – книжку занести. Давно еще брал у приятеля одну книжку, а тут как раз собрался в его края, и забросил по дороге. Не хотел даже раздеваться, но как всегда – чаю попьем, то да се, покурим… И вот такой, значит, выслушал рассказ.
Вернее, рассказов получилось два. Другой ведь рассказ был про похороны старого, забытого, съехавшего на обочину отца. Наверное, он долго съезжал на обочину, долго переезжал сначала из казенной квартиры в каком-нибудь Пятом Доме Советов, с глухими воротами и охраной, в дом поскромнее, соответственно новой должности, – ах да, тут еще развод, расставание с семьей, с сыном, то есть с отцом моего приятеля, – а потом еще скромнее, вместе с перемещением по лесенке должностей, и все время вниз, вниз, вниз, и даже когда показалось, что вбок – когда послали на дипработу, на три года заткнули дыру, – все равно это было вниз, а потом пенсия, комната в коммунальной квартире и партучет в домоуправлении. А там – больница, палата на четверых, то есть еще скромнее, чем в коммуналке, а навещает только соседка, она же партсекретарь домоуправления, два раза в неделю навещает – настоящий товарищ. Он ее не просил звонить сыну. Зачем унижаться? Вот она и позвонила потом – и правильно сделала, чтоб без этих всяких там предсмертных слез и никому не нужных покаяний.
Так вот и сошли с рассказа про похороны в рассказ про жизнь этого старика. То есть в третий рассказ.
И еще один рассказ образовался – про моего приятеля и его отца, про то, как они живут в одном доме, но совершенно не знают, не понимают, не интересуются друг другом – почему? Не потому ли, что отец моего приятеля сам оказался без отца в пятилетнем возрасте и сам не знает, как это – разговаривать с собственным сыном.
И еще рассказ про меня, как я, собираясь на похороны человека, смерть которого меня сильно огорчила и даже ошарашила, которого я уважал, любил и называл Учителем с большой буквы, и как же теперь жить и работать без него и все такое, – однако же вспомнил, что там рядом, на Пресне, живет приятель, которому я никак не соберусь вернуть книгу, и вот, значит, как все удачно складывается.
Один рассказ обрастает другим, они окружают, обволакивают друг друга, слепляются, скатываются в туманный шар, и только в середине два человека на лошадях взбираются на лесистый склон. Лето, солнце жарит, и пчелы гудят над синими цветами.
ТРЕТИЙ РОМАН ПИСАТЕЛЯ АБРИКОСОВА
Сергей Николаевич Абрикосов работал завлитом – а точнее, помощником главного режиссера по репертуарной части – в народном театре Дворца культуры имени Горбунова. Должность была проблематичная, если не сказать – мифическая, потому что и главный режиссер трудился здесь в порядке общественного совместительства, и зарплату Абрикосов получал как организатор самодеятельности через дом народного творчества, что у Сретенских ворот.
Ему нравилось это название – Сретенские ворота. Он вообще любил старые имена московских улиц и со вкусом произносил – Мясницкая, Ильинка, Якиманка и даже Кудрино – хотя никакого Кудрина уже в помине нету, а есть Садовая в восемь рядов в каждую сторону, с планетарием, радиокомитетом, кафешкой «Олень» и знаменитым комиссионным магазином, где под сонными взглядами постовых толчется фарца, предлагая прохожим часы, оправы и кассеты с видеоматериалом, распространение которого строго пресекается согласно Женевской конвенции тысяча девятьсот – дай бог памяти – ах да! – двадцать второго года. Июля месяца.
– Впрочем, все конвенции – Женевские, – говорил Абрикосов и добавлял: – Разумеется, за исключением Гаагских.
И все смеялись. Абрикосов умел пошутить, тонко, необидно и эрудированно.
– Отменно тонко и умно, – цитировал он Пушкина, – что нынче несколько смешно!
И все опять смеялись.
И Дворец культуры Горбунова ему тоже нравился, особенно его собственный, выгороженный шкафами кабинет-закуток на третьем этаже, с узким окошком, откуда виден был ажурно-стеклянный дебаркадер Киевского вокзала – творение великого металлоинженера В. Г. Шухова. Заходившим к нему перекурить актерам и декораторам – кстати, сам Абрикосов не курил, но для визитеров всегда имел до хруста высушенную на старой чугунной батарее «Яву» за сорок, – заходившим к нему он рассказывал разные истории про Шухова, про то, как он завтракал в одиночестве двенадцатью сортами овощей и как отменно цинично отказал, богач и академик, своей племяннице, попросившей у него в долг. И называл Шухова – Владимир Григорьич, будто знал его сто лет. Вообще Абрикосов несусветно много знал, и если бы кто-нибудь слушал его, отвернувшись, то непременно решил бы, что перед ним – виноват, сзади него – сидит и балаболит бодрый восьмидесятипятилетний старичок, проживший длинную, бестолковую и суматошную, но чрезвычайно богатую событиями и встречами жизнь.
Но обернувшись, увидел бы сравнительно молодого человека с короткой, но слегка запущенной бородкой, в длинном мягком свитере, с двумя большими накладными карманами между животом и грудью. Карманы были набиты сложенными ввосьмеро бумажками, записными книжками, карандашами и ручками, и выглядывал оттуда краешек темно-красной корочки удостоверения. Этот бордовый краешек был необходимым штрихом общественной устойчивости, алмазной гранью лояльности, посверкивавшей во внесоциально-монпарнасском облике Абрикосова. При всей своей непрактичности и демонстративной житейской неумелости Абрикосов упорно исхлопатывал этот никаких входов и внеочередностей не дающий документ и добился-таки, чтоб директор дворца культуры вписал в нужную графу нереальную должность «завлит» и нехотя расписался.