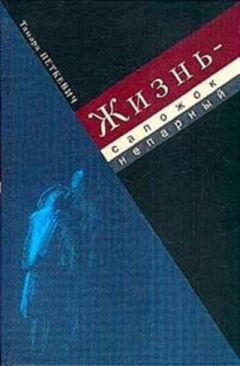— Ага, встали, пора!
А погрустневшей Наташе вспомнилось: «Долгие проводы — лишние слезы». Дядя Федя Халабруй, опередив ее, бережно взял сверток с Андрейкой на руки, локтем подтолкнул Витьку в бок и глазами, молча указал на сумку. Тот не сразу, но понял:
— А-а…
И пришлось Наташе навесить на дверь замок, сунуть ключи в карман Халабрую и шагать рядом с мужчинами налегке. Халабруй нес Андрейку бережно, боясь разбудить; что-то шептал ему в дешевенькие синтетические кружева — что-то неуклюжее, ласковое, после которого не знаешь, смеяться тебе или всплакнуть. «Своих-то не было никогда», — внезапно с жалостью сообразила Наташа. Лицо отчима показалось ей очень старым. Каждый прожитый год оставил на нем свою морщину, проложил свою борозду: и тридцатый, о котором теперь вспоминают редко, и сорок первый, и голодный сорок седьмой, когда Федор демобилизованным сержантом нежданно-негаданно объявился в родном селе, где его помнили, если еще помнили, сопатым мальчишкой, и другие годы, не столь памятные. Наташа вздохнула. Витька подмигнул ей. Он насвистывал и размахивал ее сумкою так, что Наташа перепугалась:
— Воду прольешь… смотри!
Тут мимо с тяпкой на плече — из-под линялого платка одни глаза — торопливо пробежала сухоногая тетя Нюся. Буркнула, отворотив лицо в сторону — к глухом забору:
— Здрасьте!
А у забора — лопухи человеку чуть не в пояс.
— Здорово-здорово, — один за всех троих успел ответить ей веселый Витька. — Соперница — а, Федь? Ишь понеслась, претендентка! Мусульманам, говорят, до четырех жен иметь разрешалось! Прокормить можешь? Держи!
Халабруй на это даже не улыбнулся. Далеко впереди, пыля, катил грузовик, нагруженный бурыми мешками. За ним во все лопатки бежали двое мальчишек лет по тринадцати, а может, были они чуточку постарше. Один настиг, догнал машину, с обезьяньей ловкостью прицепился к заднему борту, повис, полез, перевалился в кузов, а второй отстал, перешел с бега на шаг, остановился и побрел назад, разочарованно махнув рукой.
— Ага, — азартно и радостно, будто был им ровесником, гаркнул Витька. — Что, съел? Зелен виноград!
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас не мудрено блеснуть.
На этот раз улыбнулись и Наташа и Халабруй. Кашлянув, он сказал, виновато косясь на Наташу:
— В город покатили, не иначе. Мешки-то с картошкой, их сразу видать. Вот баб пораньше в хранилище и послали — перебрать, насыпать. Могли б и тебя до города подбросить. Да кто ж знал? Бригадир с велика соскочил: «Пошли…» — матери вашей, а куда? Зачем? Этого от них не добьешься!
— Военная тайна, государственный секрет! Ну и что ж теперь? Да и всей радости-то — в кузове болтаться! — Витька сплюнул в траву, на которой местами, в тени, еще серебрилась утренняя роса. — Хмырь какой-нибудь в кабине засел, вроде Агафьина, дустом его оттудова не достанешь! А чтоб женщине с ребенком место уступить, о том с ним никакого разговору быть не может!
Из кривого проулка, по пояс заросшего лебедой и лопухами, который вел к длинным и приземистым фермам, откуда далеко окрест расползался едкий аммиачный запах перепревшего зимнего навоза, вывернулась вдруг Светка Чеснокова. Подруга давняя милых школьных лет. Чуть не столкнулись. В соломенной шляпе, резиновых сапогах с подвернутыми голенищами и мужских ковбойских штанах с заклепками и множеством карманов, крутобедрая и высокая, Светка, будто солдат в строю, размахивала на ходу руками. Она и в школе больше всего любила физкультуру и пионерские мероприятия — маршировку, отдачу рапортов: «Будьте готовы!» — «Всегда готовы!» Увидев Наташу, расцвела — заулыбалась:
— А-а, вон кто на побывку приехал, к нам пожаловал, нас посетил! — И крепко и больно, будто медведь из цирка или борец классического стиля, облапила Наташу. Она и раньше была сильна, ее даже мальчишки побаивались, а уж теперь… Чуть не расплющила от полноты чувств, чуть в лепешку не превратила! — Что проведать не зашла, а? Зазналася? Подруга называется! Зазналася она — а, дядь Федь? Ну, как ты? Где? Что?
— Я? В городе я, Свет… К маме на денек приехала, теперь назад. Работа ведь, долго не погуляешь!
Высвободившись из ее объятий, Наташа с мучительным и непонятным удовольствием вдохнула запах парного молока, пробившийся сквозь приторный, неуместный, липкий аромат каких-то отечественных духов, которыми Светка, правду сказать, злоупотребляла. Сначала-то Светка училась на класс старше Наташи, задирала по этому поводу нос, но в восьмом — выпускном — осталась на второй год, ее не допустили до экзаменов, математика помешала, а слезы не помогли, и им с Наташей довелось посидеть год за одной партой, за которой Светка со своими габаритами античной богини едва помещалась. После обязательного восьмого, получив свидетельство об окончании, Светка вообще оставила надоевшую, ненавистную школу — пошла работать на ферму, телятницей, в колхоз.
— Наташк, гляди, на автобус опоздаем! — предупредил их Витька, взглянув на Халабруеву руку с часами.
Свои, о которых он с детства страстно мечтал, а купил на скопленные тайком от матери деньги, когда стал работать прицепщиком, еще до армии, Витька ухитрялся забывать всюду, в самых неожиданных местах. Однако часы, будто заколдованные, рано или поздно возвращались к хозяину. Целехонькие, упрямо тикающие, с заскорузлым ремешком, который, казалось, еще хранил форму его широкого запястья.
— Так чего ж не зашла? — Светка снова принялась упрекать Наташу. — Зазналася, нос задрала, горожанка? Он у тебя и так… Поговорили бы! Или не о чем стало? Учти, в следующий раз не прощу! И мужа приводи — показать! — Засмеялась весело: — Не бойся, не отобью! Куда своего девать, ума не приложишь. Или на базар отвезти — может, какая городская и польстится? В городе дур много! А как маленький твой — растет?
«Тьфу-тьфу три раза!» — в суеверном смятении подумала Наташа, однако вслух ответила:
— Спасибо, ничего… А твои?
Она помнила, что у Светки — близнецы.
— А чего им? — просияла Светка. — Растут! Такие неугомонные, обеих бабок с прабабкою заездили совсем… Ладно, двигайтесь! Я и сама-то на минутку отлучилась — их, бандитов, проведать, посмотреть, как и что!
Подруги звонко чмокнули друг дружку на прощанье, и Наташа вспомнила, как много лет назад, весной, едва с полей сошел снег и чуть подсохло, на дальнем выгоне поставили техническую новинку — «электропастуха»: огородили выгон оградой из оголенных, под током, проводов. Брат Витька — он ждал тогда призыва в армию, работал прицепщиком в бригаде механизаторов, по грошу копил деньги на часы, а по вечерам ездил в райцентр, на станцию, на какие-то курсы ДОСААФ, — Витька, первым прикоснувшись к проводу, отдернул руку, отошел к трансформатору, который возвышался над выгоном на липких свежеошкуренных столбах, подул на пальцы и объявил спокойно: «Вольт мало, а бьет сильно! Как сварка в мастерских. Троньте кто. Ага! Кусается? Это вам не батарейки лизать!» И в памяти у Наташи тут же всплыл кисленький приятный вкус, который появлялся во рту, если кончиком языка прикоснуться, будто к мороженому, к контактам батарейки для карманного фонаря, и Наташа тихонечко засмеялась. Какой-то был вкус — крыжовника или недозрелых слив? Вот дура-то блаженная…
Однако и у других тогда настроение было праздничное. Может, виной тому была весна? Мальчишки с ходу придумали себе забаву — с гиканьем и посвистом молодецким, разбойничьим начали прыгать через провода, как их предки прыгали через костры в вечер языческого праздника Ивана Купалы. И каждый воображал, будто он Роберт Шавлакадзе иди Валерий Брумель, будто он — рекордсмен. И без того запуганное, отощавшее за долгую зиму, линяющее стадо сбилось в самом дальнем углу выгона. Витька, который на уроках физики в школе либо молчал, либо ляпал такое, что у учительницы физики уши вяли и она, касаясь пальчиками висков, говорила про его буйную головушку: «Торричеллиева пустота!» — Витька гладил свежеошкуренный столб, к которому липла ладонь, и степенно, словно взрослый, рассуждал об устройстве трансформаторов — видно, в ДОСААФ научили. «Монтер! — шаловливо крикнула ему будущая продавщица Тоня. — Монтер-монтер, штаны протер! Новые надел, а те…»
Закончить она не успела: кто-то из мальчишек чуть помладше, кажется, Митя Бабушкин из Старых Выселок, тогдашняя тайная симпатия Наташи, будущий ее спутник по далеким лыжным прогулкам, подкравшись сзади, толкнул Тоньку, большую уже тогда, нарядную, заневестившуюся, а заодно и Светку Чеснокову, и Наташу, которые, приоткрыв от любопытства рты, стояли рядом с Тонькой, прямо на голые провода. Их здорово тряхнуло — всех троих. Наташа — маленькая была тогда — взвизгнула по-поросячьи и заревела, а Светка, потирая круглую ушибленную коленку, спросила: «Что ж это, и коров так, да?..» — в глазах у нее голубым озером стояли слезы. Разъяренная Тонька, подхватив с земли добрую хворостинку, погналась за обидчиком, оскальзываясь на сыром. Митя Бабушкин, улепетывая, петлял, как заяц, поди поймай его, а Витька обнял липкий столб и хохотал, хохотал…