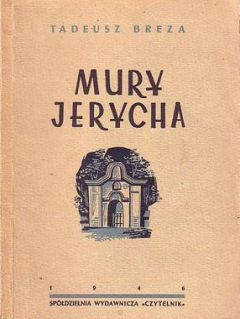- Посмотри: Хирам!'-толкает Скирлинского Ельский. - Никогда его тут не встречал.
- Тут немало и других деятелей новой волны. - Прокурор старается ослабить эффект. Костопольский интересует его не больше, чем газеты прошлых лет. Иное дело-министр Дитрих. - Видишь, кто сидит рядом с Завишей? - показывает он. - Сам Дитрих. Понимаешь!
Но Ельский продолжает рассматривать крохотную фигурку Костопольского с личиком эльфа, который с неделю пролежал в воде, он знает не только то, кем был Костопольский, но и кем тот еще может стать, вот и удивляется.
- Но почему Хирам!
Так называли Костопольского в кружке друзей, хотя ни с архитектурой, ни с масонством ничего общего он не имел.
Неизвестно, кто окрестил его этим именем великого строителя храма и патриарха избранных. Костопольский снисходительно принял это прозвище. И какое-то время казалось, что он сыграет при Пилсудском ту же роль, что и его патрон при царе Соломоне.
Но из этого ничего не вышло.
Ельский нахмурился и продолжал смотреть. Да! Оставались еще эти! Отодвинутые старики, ужасно способные. Не спутают ли они карты молодым? Все сегодняшние властители потихоньку, один за другим полетят, станут посмешищем, обанкротятся, вымрут. Но останутся еще эти старые продажные девы славы, эти вдовы собственного величия, которые скатились некогда с самых вершин сановного мира, чтобы тут, внизу, вновь обрасти авторитетом. Костопольский как раз так и держался, с достоинством. Неужели же он упал для того только, чтобы показать, что до этого был слишком низко? Не премьер и не президент, а обычный министр, каким был. Вот оно что! Ельский и сам не знал, разделяет ли он это мнение. Хирам представлялся ему мудрецом наподобие Лелевеля', однако же из другой эпохи.
- Порой я подозреваю, - шептал он прямо в ухо Скирлинскому, - что он был опоздавшим уже и в свое время. Что же говорить о будущем, о времени молодых. Смотри!
Теперь что-то говорил Костопольский. Сянос откинулась назад, ее огромные, слегка навыкате глаза застыли на лице Хирама. Отчаяние переполняло ее. Все, что говорил Костопольский, она воспринимала буквально. Яшча сидел, скривившись, Дитрих втянул голову в плечи, словно оказался под дождем без зонтика. Один Штемлер, поскольку это был его дом, пробовал возражать, но вдруг понял, что перебарщивает, раз уж ни один из сановников не огрызается.
- Отчитывает, - догадался Скирлинский.
Ельский буркнул:
- Ты сразу пронюхал, что это речь обвинителя. Хочешь подойти поближе?
Скирлинский увильнул от ответа:
- Знаешь, наверное, глупо выйдет. Дитрих какой-то надутый.
Ругаются. Это не для наших ушей.
Ельский презрительно надул губы:
- Мне бы твои заботы!
Но они так и не подошли ближе.
- Осторожно!
Слишком поздно. Отскочить назад, в тень, было уже нельзя.
Их заметил Болдажевский, который наводил на Ельского смертельную скуку.
- Сейчас сразу что-нибудь вытащит из Апокалипсиса или из мифологии, сердито пробурчал он.
Так и есть! Болдажевский приветствовал их сравнением, что они стоят, словно два Аякса. Огляделся по сторонам. Что-то не видно было, чтобы ему нашлось место на диване подле сановников. Не хотел ставить себя в глупое положение, если сами они ему места не предложат. И потому, когда Скирлинский одним словечком упомянул о его дочке, счел, что лучшим выходом будет пуститься в беседу с молодыми людьми. Вот тут, гденибудь в уголке гостиной, не спуская глаз с главного алтаря.
- Она наверху? - переспросил он Молодью люди подтвердили.
- Сядемте, - проговорил он.
И тотчас же начал с роз. Что мало кто в этот. вечер обратил внимание на редкостное их великолепие. За это же отчитал и Ельского со Скирлинским и объявил:
- Лишь по одной причине я завидую людям богатым! - Тут он выдержал паузу. - Они в состоянии окружать себя цветами.
Он не заметил откровенной гримасы на лице Ельского, который, скривившись, искал взгляда Скирлинского, чтобы поделиться с ним безбрежным своим презрением к такого рода болтовне. Болдажевский видел теперь только одно: Костопольский вставал.
Министры отбили у Костопольского всякую охоту продолжать. Он опять столкнулся, как он говорил, со сговором слепцов против зрячего. Что толку, что Дитрих молчал как мышь, Яшча путался. Завтра они будут вспоминать об этом разговоре как о страшном сне, который не имеет ничего общего с действительностью. Ни одной коррективы от них не добьешься. Теперь уже никогда. Они мчались вперед по неверному пути. Хирам, словно звезда, оторвавшаяся от своего созвездья, остановился и огляделся окрест. Их гонку он считал беганиной по кругу. Вместе с ними мчится вся страна. Он взглянул на Метку Сянос. Ею он восхищался. Но сейчас ее детский лепет-так малыш добросовестно читает стишок старосте-вызвал у него отвращение. Она пробовала пристыдить Костопольского:
- Как это, неужто вы и вправду не видите, как все хорошо!
Он рассмеялся.
- Среди слепых одноглазый-паршивая овца! - беззлобно проговорил он. Будьте здоровы!
Дитриху уход Костопольского придал смелости.
- Ты уже не Хирам, а Кассандра. - И он напыжился, гордый своей колкостью.
На него только сядут-и понесут! Костопольский понял это.
Пусть поживет в них немного то, что он им говорил. Что ж, не успеет захлопнуться за ним дверь, как они будут пить за здоровье друг друга большими глотками из бокалов, наполненных доверием и верой в то, что все обстоит наилучшим образом, пока вовсе не позабудут о впечатлении, которое он на них произвел.
- Я присмотрю за делами! - полушутя, пробурчал он себе под нос. И оказался рядом с Болдажевским. Здесь он был недалеко от тех, но не с ними.
Ельский, Скирлинский сорвались со своих мест. Он выбрал стул одного из них, а тем временем Ельский придвинул кресло, но он не сел в него, и Ельский оказался вроде бы без места. За другим идти глупо. Он обратился к Хираму:
- Может, однако, в кресло?
Костопольский отмахнулся от него.
- Вы и министерское мле тоже так уступили бы? - И, внимательнее присмотревшись к нему, добавил: - Э-э, кажется, нет!
Ельский бь1л доволен. Хо-хо! Такая ассоциация! А Болдажевский тем временем искал тему для выступления. Соседство Костопольского-тот случай, которого упускать нельзя. Подыскивая весомые слова, он возвращается к вопросу о дочери.
- Товитка! А вы знаете, что это за имя? - гудит он, обращаясь вроде бы к Ельскому, но на самом деле к Хираму. - Не нянька и не сама она придумала такое уменьшительное имя, которое, можно было бы предположить, бьию нами подхвачено, - начал он длинным периодом. - Мы называем ее именем, записанным в метрике, едва только изменив его звучание, - Товита. Ибо такое существует. Вы не читаете Священное писание, это печально, а еще печальнее, что мне нетрудно в этом было убедиться, но ведь каждый из вас слышал о Товите. У него в Ветхом завете есть своя книга, как у Иова, Юдифи или Эсфири.
- "Слепой Товий". - Костопольский любезно напомнил о драме, которую Болдажевский поставил без малого четверть века назад.
Старый поэт ответил ему улыбкой.
- Вещь, уж столько лет не игравшаяся! - воспользовавшись случаем, пожалел он себя. - Товий, а по-гречески Товит, это имя отца, в отличие от сына, во всех уже языках-Товия. Книг, о которых я говорю, сам я, признался он, едва доверяя себе, - тоже было такое время, не знал. Мой католицизм родился из слабости, это знакомо каждому, кто в молодости испытал страх перед жизнью, так вот у меня он выражался тоской по формам общественных реальностей, которые по большей части принадлежали минувшим эпохам. Я полагал, что относительно легче мне было бы жить в прошедшем времени. Костел, дворянские усадьбы, страна, не забитая людьми настолько, что они едва не касаются друг друга, - вот о чем я тосковал, и творчество мое тоже. Отсюда мой первый цикл исторических и религиозных поэм, отсюда и мой драматический дебют-пьеса "Книга", образ которой в моем сердце окружали два ореола: один-давности, а другой-чистоты. Я гонялся за подобного рода призраками, не отдавая себе отчета в том, что моей жизни они в общем-то чужды, поскольку мне ни разу не пришло в голову, что они когда-нибудь могут и должны соприкоснуться с нею.
Он переждал, пока не отзвенит смех Метки Сянос.
- Они говорят о чем-то веселом! - позавидовал было он на мгновенье, но тотчас же вернулся к повествованию.
- Я был женат. Постоянно сидел за границей. Один, не один!
Жена моя привязала себя к Варшаве ученьем в пансионе, а кроме того, автору нужна особа, ходящая по его делам в издательства, редакции, пока ему хочется покуролесить по белу свету. Жизнь моя была небезупречна. Большего не скажу, хотя понимаю, что трудно сказать еще меньше. В столице нашей, как вы знаете, за год до войны возникает Польский театр. Директор пишет мне, просит пьесу. С историей надо держать ухо востро! Цензура! Мне остается Библия. Принимаюсь читать ее сначала. Как-то не идет.