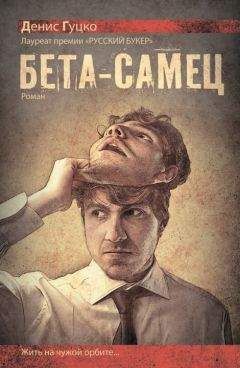С верхних этажей начинают спускаться другие — те, что давно уже живут в комендатуре. Всё ждали чего-то, на что-то надеялись. Или некуда было ехать. Одна женщина, другая, обе в чёрном… совсем дряхлая, согнутая старуха… Значит, ещё две женщины, старуха и дети, пятеро детей-дошколят. Последние ласточки. Говорят, кроме них армян в городе не осталось.
— Досидели до последнего, — гундосит Земляной.
«Помогите», — показывает Хлебников на спускающихся по лестнице женщин. Пока Митя перетаскивает вещи, Тен помогает спуститься старухе, и они возвращаются обратно ко входу в актовый зал. Сойдясь в центре вестибюля у столика с креслами, женщины здороваются и становятся кружком. Здороваются почти беззвучно, глядя отвесно в пол. Понятно без перевода: «И ты здесь, и тебя…» Кто-то из них роняет какую-то фразу, и они как по команде начинают тихонько плакать, по-прежнему глядя в пол и утирая носы кто платком, кто сложенными в щепотку пальцами. Автобус вот-вот должен подъехать. Их дети устали жаться к их ногам. Бегут к двери, лезут под стол, падают, споткнувшись о чемоданы. Девочка с косичками, как самая старшая, помогает с маленькими, трясёт погремушками, отлавливает убежавших слишком далеко — но с испуганными глазами оборачивается на каждое слово, произнесённое матерью.
Беженцы.
Беженство — женское занятие. Плата за материнство.
«Как там? Вспомнить бы… тот, жуткий… мурашки от него… Дети его да будут сиротами, а жена вдовой… — так, кажется — Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба… — и самое сильное — и просят хлеба и з р а з в а л и н с в о и х. Добрая книга — Псалтирь. Знать бы, про кого так…»
Автобус въезжает на площадь, разворачивается и задом сдаёт к выходу. Кто-то из солдат, встав позади автобуса, знаками да свистом помогает водителю парковаться между БТРов. Офицеры выходят из дежурной комнаты, Кочеулов командует: «К машине». Пятеро определённых на эту поездку солдат выбегают на площадь. Саша Земляной, Митя, Тен из первого взвода и двое из третьей роты. Тот, что однажды вывихнул на полевом выходе ногу. Высокий, лопоухий. Его несли на носилках все по очереди и все по очереди чертыхались и называли халявщиком и хитро….ным. А он сверху, с носилок огрызался на всех по очереди и кричал, что пусть они его бросят, разве он просил их… Не повезло парню, так и пристало к нему прозвище: Вова Халявщик. С ним тот, который на гражданке занимался пулевой стрельбой и всегда выступает от третьей роты на показательных стрельбах.
С утра Митя успел прочитать пару страниц в туалете.
Да облечётся проклятием как ризой…и да войдёт она как вода во внутренность его…Нелюбовь! И не какая-нибудь там косноязычная нелюбовь курсанта Петьки, каптёра Литбарского, замполита Рюмина. Тысячелетняя, облечённая в изысканное слово. Вона откуда, из далёкого какого далека. И дотошная! Да будет потомство его на погибель…
Их зовут обратно. Нужно помочь погрузиться.
Когда всё рассовано по багажным ящикам и сиденьям, женщин приглашают пройти в автобус… Они идут трудно, будто против ветра. Старуха ковыляет впереди всех.
…Путешествие по Вавилону обещает быть волнующим. Прохожие останавливаются и смотрят вслед. Водитель торопится выехать за город. Подъезжая к перекрёстку, не сбавляет скорости, издалека давит на сигнал: поберегись! Хорошо, что Рикошета уже нет в Шеки… вот бы встретились два одиночества!
— Али, — говорит Рюмин — Нельзя ли помедленней? Всех угробишь.
Али хранит молчание и «топит» по-прежнему.
Сам вызвался. Никто не принуждал. Как только узнал, что на его автобусе собираются вывозить беженцев в Армению, прибежал в парк, развопился, развозмущался. Когда понял, что бесполезно, изъявил желание поехать самому. Поговаривают, местные надеются, что им разрешат приватизировать автопарк, как только всё уляжется. (То есть: получить в частную собственность, забрать себе. Целый автопарк… Наивные! Как будто это им чайхана какая-нибудь!)
За городом Али ещё пуще разгоняет свой «Икарус». Будто и впрямь хочет угробить всех. Свернув на уводящую в горы дорогу, он вынужден несколько сбавить, но и здесь гонит дерзко и нервно. Каменистые откосы подлетают вплотную, ветви хлещут по окнам. Самих гор пока не видно. Пейзаж разматывается серовато-бурой холстиной. Лишь изредка жёлтые и бордовые деревья вспыхивают на склонах, бегут и падают за очередной склон.
Кочеулов и Рюмин перестали взывать к Али.
— Ну смотри, герой асфальта, — говорит Кочеулов — Если что, не обижайся.
В салоне тишина. Никто, похоже, и не думал пугаться. Многие откинулись на сиденьях, закрыв глаза. Дремлют. Старуха с самого города пережёвывает ириску, угощенье Рюмина. (Вынул из кармана и протянул с умильной улыбкой: «Кушайте». Что это с ним?) Та, у которой дочка с косичками, сидит, уставившись в окно. Девочка села позади неё и теперь, заглядывая между спинок передних сидений, то и дело что-то просит, спрашивает — но мать перестала ей отвечать. Окаменела, слепыми мраморными глазами смотрит в окно.
Навстречу несутся склоны и ветви. Солдаты режутся в карты в хвосте автобуса.
— За…ло, — вздыхает тот, который занимался пулевой стрельбой — Скорей бы тут всё закончилось… Мне ходить?
— Ходи. Только по одной!
Земляной играет хорошо, а Стрелок, с которым он в паре — плохо. Земляной психует.
— Долго ещё…
— Вот ты чушь порешь, — перебивает его Тен — Я вам так скажу: не будьте тупорылыми. Чем вам тут плохо? Что вы все ноете: когда, когда, когда… Придумали, тоже мне, тему! Ну ладно Рикошет рвался. Так тот домой. А вам-то куда? В части? Равняйсь-смирно-пошёл-на …?
Он хлёстко отбивается последней картой и выходит из круга.
— Какого …! — продолжает он — Здесь ты жрёшь как человек, спишь как человек. Почти. Плюс начальство, бывает, сутками не видишь. Чего ещё ваша душенька желает? Здесь Дом отдыха, мужики! Чё вы заладили?.. Я лично так скажу: чем дольше это продлится, тем для нас лучше. Разве нет? Куда торопиться? Отдыхайте!
За окном то частокол деревьев, то провалы в небо, в хрустальную пустошь до снежных вершин. Прав Тен. Нечего, в самом деле. Прав, и все это знают. Потому и замолчали.
…У неё истерика. Но ни слезинки, глаза сухие — и от этого становится не по себе. Плотина рухнула — но вместо воды хлынула пустота. Ударила и потащила. Всюду — пустота. Напирающая и сметающая плотины. Не стоило, Митя, противиться. Глядишь, и выплыл бы.
Она говорит и говорит. Снова поазербайджански. Го́лоса на крик не хватает, но руки страшны как у больных во время приступа, когда хватают и мнут одеяло. Дочь пытается её успокоить, ловит руки и, готовая извиняться, оборачивается на военных. Военные молчат. Кочеулов делает невозмутимое лицо и вытирает лоб платком, замполит тасует отобранную у солдат колоду. Молчат и остальные женщины. Кто-то плачет, кто-то отвернулся к окну.
Время от времени она переходит на русский:
— Аллах их накажет, аллах их накажет!
Митя в смятении. Как это понимать? Ведь они везут армян. Увозят в Армению, спасают от погромов. Тогда причём тут аллах?! И почему армяне говорят по-азербайджански?! Ох уж эти Вавилонские штучки!
Водитель Али выкрикнул какое-то ругательство на одну из её реплик. Кочеулов наклонился и что-то сказал ему на ухо. Али взглянул презрительно, но больше не ругается.
— Аллах их накажет! — повторяет она монотоннно — Аллах накажет!
— Гаянэ, — зовёт её кто-то из женщин по-русски — Перестань, дорогая, не трави душу.
— Увидите, увидите, аллах их накажет! Аллах накажет!
Наконец, Митя не выдерживает.
— Товарищ лейтенант, — наклоняется он к Кочеулову — А почему «аллах»? А? Они же армяне?
— Да у них армянского — одни фамилии. Во втором и в третьем поколении здесь живут.
…Автобус едет медленней. Скоро граница. Али заметно разнервничался, курит одну за одной.
— Что, герой асфальта, — усмехается Кочеулов, увидев его трясучее состояние — Может, вылезешь, здесь нас подождёшь?
Гаянэ уснула. Её дочка сидит рядом и в чутком полусне вздрагивает, вскидывается каждый раз, когда мать толкает в её сторону на неровностях дороги.
Ты страшен…С небес возвестил ты суд, земля убоялась и утихла…
…Все повскакивали со своих мест и стеснились в проходе.
— Спокойно!
Али произносит первую за всю поездку фразу:
— Что делать, командир?
Их человек двадцать. Задрав к небу охотничьи ружья, сходятся с обеих сторон к середине дороги. Идут вразвалочку, уверенно. Передние останавливаются, картинно приваливаются к валунам у края дороги. Непривычное освещение, резковатое, как бы искусственное, прибавляет сцене театральности.