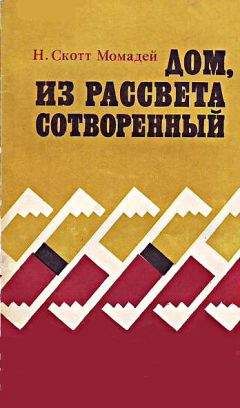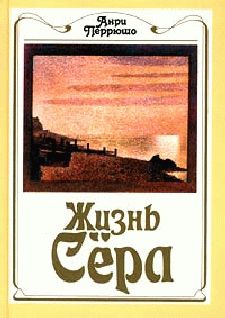Тьма перед рассветом посерела, листву одело тонким инеем; он заседлал коней и вновь не спеша двинулся по следу, против ветра. На восходе солнца он вышел на гребень горы. Несколько часов затем он шел вдоль гребня, и оттуда открывалась вся окрестность. Была, поздняя погожая осень, слева и справа вставали из тени светлые зелено-голубые склоны, и залитые солнцем осиновые рощи сияли желтизной листвы и прозеленью тонких стволов, а далеко внизу, в глубоких лощинах, колыхались верхушки черных сосен. К середине утра он дошел до обширного обнажения скальной породы и там, на седловине гребня, потерял след. Влево ступенчато шло вниз древнее сухое русло, и ступени были сперва широки и часты, но чем ниже, тем все уже делались, а расстояние между ними — все больше. Он привязал лошадей и стал спускаться руслом, опираясь на винтовку. Двигался неторопливо, спокойно и достиг места, где русло сузилось в длинную воронку, а по обе его стороны скат круто падал в широкую ложбину, и за ней виднелась кромка леса; а вот и ободранная когтями земля, где медведь, покинув камень русла, съехал по скату вниз, и свежий пролом, проход в кустарнике ложбины. Он хотел было и сам спуститься по-медвежьи, так было легче и быстрей, а конец охоты близился, и брало нетерпение. Но нельзя спешить и шуметь. Медведь знает, что он подходит, медведь лучше человека чует сближение и следит сейчас за ним из леса, ждет, — но шуметь и спешить нельзя. Стенки русла были гладкие и воронкообразно шли на двадцать футов вниз, на скос ложбины, поросшей донником, шалфеем и полынью. Опустив пониже винтовку, он разжал пальцы, и она почти без шума упала в траву, в высокий донник, блестя округлым ложем и длинным стволом среди зелено-желтых изогнутых стеблей. Он стал спускаться, упираясь в стенки, удерживая тело от падения лишь силой напряженных мускулов. Спуск был трудным и медленным, и под конец руки и ноги стали дрожать, но он был юн и силен и упруго спрыгнул на песок, поднял винтовку и пошел дальше, не торопясь, тем же шагом, каким шел медведь, — ступая по следам медвежьим; пересек ложбину, поднялся по склону ее и вошел в лес, теперь уже не опасаясь зашуметь, а зная лишь, что добыча близка, и глядя вниз, на медвежьи следы.
Когда же он поднял глаза, то увидел перед собой солнечную прогалину, и в дальнем конце ее стоял у зарослей медведь — тихо, непугливо, бестревожно. Он нацелил винтовку, и медведь поднял и повернул голову, но не выказал страха. Небольшой, черный в тени и пятнистый от солнца, он стоял неподвижно, повернув на четверть и сгорбатив туловище и невысоко держа плоскую голову с глядящими в упор маленькими черными глазками. Медведь был молод, оброс жиром, по его груди и брюху и с боков коротких, толстых ног уже мохнатился зимний, более длинный и светлый, пыльно-бурый мех. Пальцы сжались на ложе, и винтовка дернулась, и выстрел грянул, раскатился по склонам, и он услышал шум разлетающихся птиц над головой, увидел метнувшиеся кто куда лесные тени. Пуля ударила в черное медвежье тело и сотрясла его, но голова осталась еще неподвижна и взгляд направлен на человека. И только затем последовал момент — всего короткий миг — бесполезной, горестной поспешности. Медведь повернулся и не то что шарахнулся в страхе и боли, а тяжело сунулся, сделал поспешный и колеблющийся шаг-другой и не смог больше. Дрожь прошла по нем, он оглянулся снова и упал.
Охота кончилась, и лишь теперь уместна стала торопливость; все было кончено, и все сделано как надо. Ранка в шкуре была маленькая, чистая, низко под лопаткой, где мех и мышца тоньше, и кровь не текла из пасти. Он достал свой мешочек с цветенью и, сыпнув, провел желтые полосы над медвежьими глазами. Наступал уже полдень, и он торопился. Он выпотрошил медведя и растянул тушу так, чтобы кровь не затекла на мех, не пропитала шкуру. Торопливо поев медвежьей печени, он взял остальную ее часть с собой; зашагал, составляя на ходу план действий, вспоминая свой спуск и все расположение местности, как она видна была с гребня. Быстро прошел с четверть мили — до места, где можно уже было свести лошадей вниз. На лице его была кровь медведя, он нес в руке теплую влажную медвежью печенку. Он поднялся на гребень к лошадям, и жеребчик глянул дико, захрапел, натянул привязь, гремя копытами по камню и вздрагивая кожей холки. Он небыстро подошел к жеребчику, уговаривая, успокаивая, взял поводья. Охотничья лошадь смотрела, старая и равнодушная, и обмахивалась хвостом. Мешкать было некогда. Он жестко натянул удила, слегка повысил ставший резким голос. Медленно поднес медвежью печень к расширенным ноздрям жеребчика и обмазал ею конский храп.
И верхом на жеребчике он спустился с горы, навьючив медведя на охотничью лошадь и ведя ее в поводу, и теперь он и жеребчик сравнялись с этой старой охотничьей лошадью и черным медведем — стали взрослыми, стали охотниками. На ночевку он остановился далеко внизу, почти уже на равнине, — и видел над собою звезды, слышал койотов в отдаленье у реки. А рано утром он въехал в пуэбло. Он был теперь мужчиной, был помазан кровью медведя. На его призывный клич вышли мужчины пуэбло — встречать его. Они вышли с ружьями, и он отрезал каждому полоску медвежатины, и они украсили ею ружья, обернувши вокруг ствола. А вскоре и женщины вышли с лозинами, приветствуя медведя и прикасаясь прутьями к его шкуре. Они были кругом и ликовали, мужчины и женщины пуэбло, а он ехал среди них с каменным лицом, глядя прямо перед собой.
Она была дочерью колдуньи. Дика была, как ее мать — эта пекосская старуха, которой он боялся, которой все боялись, потому что рот ее окаймляли белые усы и она ненавидела и сторонилась всех. Но дочь была юна и прекрасна, и звали ее Порсингула. Женщины городка говорили о ней худое у нее за спиной, но она только смеялась; сыновья их были во власти ее чар, и глаза ее сверкали презрением в ответ на презрение женщин.
В теплую летнюю ночь она ждала его у реки. Сойдя на песчаную отлогость, он не увидел ее. Он огляделся, стал звать. Ответа не было, речка текла в лунном свете, и листья тополя неподвижно чернели в небе. И наконец она со смехом вышла из своего укрытия, полная бесовского задора. «Сам виноват, зачем рано приходишь, — сказала она, — мешаешь нам с Мариано». «Ладно тебе», — сказал он и коснулся грудей, прижал ее к себе, поцеловал в губы. Но сперва ей надо было помучить, поиграть, понасмехаться. Ведь он теперь в церкви прислужником? И зовут его по-церковному — Франсиско, и разве не поповское он семя? Разве не говорил ему отец, старый чахоточный поп, что она такая и сякая? Она трунила и смеялась, дразнила и мучила, но он в ответ лишь гладил ее тело, и, наполнясь желанием, она затихла, стала нестроптивой. Потянула его вниз, на песок, прижала его руки к нагому теплому изгибу живота, к упругому и темному межбедерыо, к горячему влажному устью, задышавшему под его касаньем. И, одичав, воспламеняясь, раскрыла бедра, и он вошел к ней резко, твердо, глубоко; и, корчась под ним, моля, проклиная, задыхаясь, она изо всех сил впилась тугими крючочками пальцев в плечи его, обуздывая и встречая свирепые косые толчки его силы.
Всю зиму она, смеясь и плача, вынашивала его дитя и, чем дальше, тем прекрасней становилась. Из смеха ее ушел резкий задор, из глаз — дикий блеск, они стали грустными, глубокими и милыми, и вся она как бы уменьшилась и предалась ему покорно. Но он был недоверчив, насторожен; женщины о ней шептались, а старик священник избегал его и только глядел ему вслед укоризненно. И порой ночами, когда она лежала, прижавшись к нему, он вспоминал ее худую славу и отворачивался. Родился ребенок — мертвый, и она увидела испуг Франсиско, и все кончилось. В глаза ее вернулся блеск, и она ушла, отстранилась со смехом.
— Авелито! Быстрей, мальчик!
Надо ехать в поля, но прежде есть еще дело, и покамест он отправил в поле Видаля с повозкой. А сам посадил меньшого внука перед собой на лошадь и, отъехав от города на север, пересек широкое сухое русло Арройо-Бахо, что юго-восточней Вальеситоса, у верхнего перехвата долины. Там, на равнине, между синими холмами и низкой грядой красных утесов, бугрится темно-красная скала. Они подъехали к ней с юга, и с этой стороны она казалась покатым, некрутым повышением равнины, но когда выехали наверх, то очутились на обрыве. Он снял внука с лошади и встал с ним на северном краю, где скала отвесно падала под ними вниз на сорок футов. Там стлались поля, а вдали, за сотней холмов, виднелось устье каньона.
— Теперь слушай, — сказал он, и они застыли неподвижно на скале. Солнце залило долину, подул утренний ветерок, и длинный черный силуэт восточной месы отодвинулся к горизонту. Ветер внизу колыхнул яркие листья кукурузы, и послышался шум бегущих ног. Сперва он был слаб и далек, но усиливался мерно, приближался и стал топотом ста, и двухсот, и трехсот бегущих людей — слитным звуком небыстрого, но легкого и вечного бега.