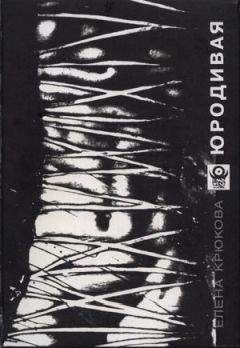— Тихо! Тихо!..
Молнии били в нее и из нее, живые руки ее не могли пригвоздить и спасти, все рвалось, летело и трещало по швам, ужас залеплял ей глаза, вставал в глотке костью гигантского Ионина Кита, ее выворачивало наизнанку, не хуже, чем от тех грибочков могло быть, своя стряпня ближе к брюху своему, это понятно, но отчего идет волною тьма, железная тьма сжимает квадрат света, и держат ее, истязая, уже не живые родные руки, а железные крючья, и на деревянные копья насажено ее орущее нутро, и железные гвозди, те, что потеряли по дороге старые римские солдаты, синие от мороза гвозди, вонзаются в ее запястья и ступни, — Боже, Боже, зачем Ты оставляешь меня, я же человек, я не хотела убивать, лучше убей меня, лучше раздави стопой Своей, чтобы не видеть мне мертвого тела человека, с которым я прожила много красивых хлебных лет. Боже! Зачем Ты вырываешь мне внутренности! Ведь я же не собака! Ведь не устрица я, чтоб меня из раковины — вон, с мясом! Убей меня милостивее, чем я убила его! Не рви меня на части! Не загоняй в меня дикие крючья! Не выдергивай с визгом переплетенья нутра! Будь милосерден! Я не оказалась пред Тобой человеком — будь со мной Богом! И тогда я поверю, что Ты Бог!
Тиски тьмы сцепили ее залитые холодным потом виски, и она полетела вниз и вбок, кося слепым вытаращенным глазом на вихренья миров вдали и вблизи. Возлюбленный неистово сжимал ее, тряс, плакал. Последнее, что накатывалось на нее, — белое и жаркое пятно круглого света, вылезающее из грязной тьмы, слепящее глаза и освещающее все изъяны тела и потайные нищие мусорницы духа; резкий правдивый свет, сходный с солнечным, но ярче, жесточе и голоднее. Пятно сожрет ее, подумала она, проваливаясь и летя, и это было последнее, что она запомнила, будучи Катериной Рагозиной.
ПЕСНЬ КСЕНИИ ПО ВОСЧУВСТВОВАНИИ В СЕРДЦЕ ЕЯ ЖИЗНЕЙ ИНЫХ ЛЮДЕЙ
…лицом в снегу, очнуться, на Площади. Жить. Опять быть. Ну и живуча! Как муха. Кто с кошкой сравнит. Кто еще с каким зверем простецким. Почему я здесь? Кто насовал мне в морду снег? Кто уложил меня ничком посреди Площади сирой?!.. А?!.. Молчите. Никто не хочет отвечать. Ну и отвяжитесь. Ну и…
Я поднялась, сперва на колени, потом на четвереньки. Богато и строго одетые люди и важные железные повозки сновали по кругу, как белки в карусели, вокруг меня. Я бредила, я торчала в самом сердце засыпанной снегом по горло Площади, как изюм в булке. Где я была?.. Кто-то выбросил меня за ноги с высокого этажа?.. Почему на локтях и запястьях у меня синяки, как от злых пальцев?.. Попала в переплет, это ясно. Может быть, водку в меня влили. Не могу вспомнить. Кто мне по голове дал молотком или доскою, что ли?.. Если бы человек помнил в с е, сколько лет он мог бы жить на свете?.. Три года?.. Пять лет?.. Десять?.. Забыть — это самое главное счастье. Ты рождаешься во второй раз. Ты ничего не помнишь.
До ушей донеслись звуки заунывных труб. Люди, горбясь и сжимаясь в некрасивых черных пальто, ежась и пряча головы во вздернутые воротники, шли за грузовиком, в кузове голо и красно сверкал гроб, восково просвечивала на резком зимнем Солнце мертвая голова. Оркестранты, дуя на обмороженные руки, бухали в медные тарелки так, будто хотели их разбить и отшвырнуть в сугроб. Красно, безумно горели под синим индиговым небом, в окруженье мертвых снегов, медные тубы и тромбоны. Ду, ду, ду, пу-пу. Музыка смерти. Так вот чем все кончается в жизни. И ты сделала это сама.
Ты?!
Ксения отняла лицо от снеговой грязи.
Я, я, я. Я, бродяжья тварь. Я ясно вспомнила свое имя. Я вернулась в себя. Вот оно, Кочевье по Душам. Этого ли ты просила тогда, в Дацане, прижимаясь к худой материнской груди?! Этого хотела — тогда, на сером морском берегу, под кнутами ветра и брызг?!
Кто ты такая, Ксения?!
Я-то?!.. А человечек я. Меня все трогают. Пощупать пытаются. Оторвать кусочек. И съесть. Не трогайте меня, думала я всегда, дайте мне спокойно жить и ходить там, где вздумается мне. А меня все трепали! Все дергали, рвали! Облизывали! Зубы всаживали! Рычали! Пинали! Катали и валяли! И я…
И ты?.. Что?.. Озлобиться должна была, да?!..
Да! Я ждала этого в себе! Спрашивала себя то и дело: «Ну как?.. Озлела ты или нет еще?..» Но тихо было там, где в человечьей душонке иной раз ночует Сатана. Молчало. И я не стала больше думать так, чтоб от меня отвязались. Все перевернулось. Оборотилось все. А когда, я и сама не заметила. «Трогайте меня все! — кричало во мне, пело, — грызите. Кусайте! Нате меня! Я ваша. Вы — это я. И я — это вы. Не вижу разницы. Кто нас разделил?! Бог?!.. Но ведь ваши волосы — мои волосы, ваши глаза — мои глаза. Я плачу вашими слезами и смеюсь вашим смехом. Так где же тут справедливость, что вы гоните меня взашей, а я смотрю волком в ваши спины?!»
И как только я сказала себе: вы и я — одно, — тут-то все и началось. Голова моя загудела, и я стала путать времена и лица. Я стала называть себя другими именами, тысячью других имен. Сегодня я не знала, как меня будут звать завтра; а завтра забывала, как я звалась вчера. Лишь Ангел носился надо мной в темноте и хрипел: «Ксения». Я не Катя Рагозина. Я не убивала этого человека. Не убивала! Не убивала!
Скос глаз на синее, желтое, выпитое страхом лицо. Брям и грюк и дзынь меди. Завыванье голодной музыки на ветру.
Ксению шатнуло, выломало ей плечи, вырвало на колючий слежалый снег, вывернуло наизнанку.
С этих пор она могла вселяться в людские бродячие тела и спасать людей от беды, если беда подстерегала их; если людей поджидала радость, Ксения изнутри, из чужой души, радовалась этой радости тоже, и люди испытывали сильное счастье, ибо оно удваивалось и удесятерялось. Это странствие по душам было не в ее воле. Она никогда не знала, кто откроется перед ней, как Царские Врата в храме; живые души плыли и расстилались в дыму дыханий, и она вступала в них, как девчонка в задранной рубашке — босою ногой — в холодную воду ручья.
Так жила она тысячу жизней. Так ее силу пили и пили слабые человеки — женщины, мужчины, дети, старухи, раскрашенные по-фазаньи девахи, кургузые старики в валенках — истопники, сторожа, кладовщики, — бабы на сносях и бесплодные матроны, несчастные любовницы и сцепившие зубы в камере смертников убийцы. Сама пройдя через убийство, Ксения поняла, что оно — не последняя ступень отчаяния, где кружится жаждущая отсечения и возмездия голова; что есть провалы во тьму еще более страшные, и даже она, счастливая в даре переселений и скитаний, не в силах отвратить бедняг от судьбы. Она не вершила судьбы, ибо не могла быть Богом; она просто проживала с человеком кусок его жизни, жевала его черствый ржаной, пила его горькую и пьяную чашу.
Она давала душам напиться вдосталь своей души — щедро, через край, плеская и расплескивая. Сердца бились то в унисон, то вразнобой. Времена слоились и смещались. Засыпая на рогожке где-нибудь на теплом чердаке или в холодной сараюшке, она боялась увидеть во сне лица, подобные лицу Кати Рагозиной. Она не хотела идти вброд еще раз через погибель.
И все-таки она увидела ее — грубую бабу, пугающую красотой тигрицы. Неоны расцвечивали ночь. У Ксении мерзли руки, ноги. С наслаждением она свернулась бы клубочком у ног теплого кафе. Окна горели медово, рыже. Колеса железных повозок, глупых машин, шуршали о камень мертвого города. Армагеддон готовился ко сну, зажиревший, надменный. Мороз усиливался. Все шли в роскошных унылых шубах, и лица людей стучали ресницами, как часы. Ненависть была нарисована на лицах морозом. Ксения прислонилась спиной к нарядной витрине, где мерцали срезы буженины, солонины, комья фольги, мотались пышные еловые ветки. Приближалось Рождество. Люди волокли на плечах, на горбах мрачные елки, связанные веревками в виде длинных селедок. Люди тащили в коробках большие хрупкие шары, туго скрученные цветные ленты, серебряные нити, похожие на летний ливень.
Ксения хотела елки. Боже, как она хотела елки! Кто бы позвал на елку бродяжку. Кто б накормил до отвала сладким пирогом. Тонкая улыбка прорезала розовый от холода Ксеньин лик. Пусть пирог живет спокойно. А вот елка… без нее — тоскливо и пусто в те часы, минуты, дни, когда она должна к тебе прийти. Да разве только в елке все дело. Дело в человеке. Вот мыкается она по душам. Спасает чужие жизни. А человека нет. А человека все нет и нет. Днем с огнем, даже если всучат ей в кулак самый яркий фонарь, и она будет ходить по лабиринтам Армагеддона, высоко, выше затылка, над собой и над людьми фонарь поднимая, она не отыщет Человека Любимого. Человек Любимый — это может быть Бог, сошедший при жизни в ее живую жизнь. Где был ее Юхан? Где был юный лейтенант? Единственные лица их заслонились тысячью иных лиц. Иногда, зайдя с мороза в парную, всю в свечных язычках, церковь, она ставила за них свечу, попросив ее, как милостыню, у суровой продавщицы свеч, и крестилась широким крестом. Но елка! Елка! Елка — это божество. За елку самое можно ставить в церкви свечку. Облеплять ее свечками, как медовыми лепешками. Украшать, как древнюю женщину, серьгами, подвесками, бусами, ожерельями. Кормить, как ребенка, с ложечки — маслами и благовониями, посыпать темно-зеленые жесткие волосики блестками. У, елка!.. Ксения сладко и тоскливо вздохнула. Елка без Человека — коса без гребня. Нож без кулака. Человека у Ксении не было, и, прислонясь горячей, под рубищем, спиной к холодному стеклу витрины, она горько и светло плакала, глотая слезы, как лакомство.