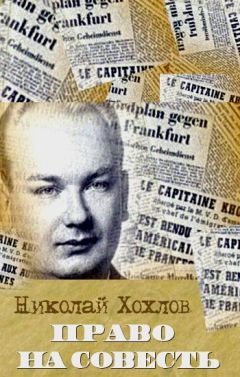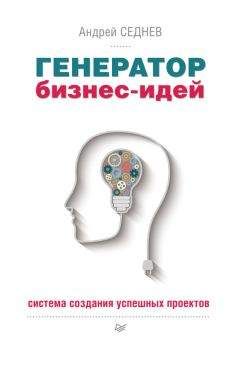На шкафу, по бокам резной деревянной шкатулки, две фотокарточки в простых рамках. Я встаю и подхожу ближе. На одной из них, женщина с открытым русским очень красивым лицом облокотилась на ручку кресла. Наверное Янина мама. В нашу последнюю встречу Яна ничего не рассказывала мне о ней. На другой фотографии — молодой человек в кителе необычного, повидимому, польского образца. У него прямые, строгие черты лица. Фотокарточки старые и сняты, наверное, очень давно.
Входит Яна с чашками и сахарницей в руках.
— Это твоя мама?
— Да.
— Она жива? — спрашиваю я и слышу короткий ответ:
— Нет. Она умерла в сорок втором году.
Я подхожу совсем близко к ней.
— Подожди. Твой отец умер, насколько я помню, — еще до войны. Значит ты и Маша остались после сорок второго года сиротами?
— Да, — коротко отвечает еще раз Яна.
Я хочу что-то еще сказать, но из кухни доносится дребезжание крышки закипевшего чайника. Яна быстро выходит из комнаты. Я медленно опускаюсь в кресло. А что, собственно, я мог бы сказать? Слова в таких случаях — ни к чему.
Тринадцатая квартира занимает правую четвертушку полуподвала в доме номер пять по Кривоникольскому переулку. Дом был построен еще до революции, и осенью сорок девятого года квартира казалась темной и сырой. В былые времена она отапливалась печками, но самая большая из них, соединявшая стены трех комнат — спальни, столовой и кухни, рухнула незадолго до конца войны. Когда Яна с братом Андреем и несколькими друзьями по институту разобрали груду кирпичей и обгорелой глины, в полу осталась большая дыра.
На ремонт за счет государства, как обычно, рассчитывать было нечего. Дыру забили сами досками, приобретенными у плотника с соседней фабрики за литр водки. Залатанное место особенно в глаза не бросалось, — старый и истертый пол красотою не блистал. Оставшаяся в коридоре печка дымила и чуть ли не чихала всякий раз, когда ее затапливали.
Я привык к своей светлой и просторной квартире на улице Воровского, со стенами, выкрашенными маслянной краской и увешанными картинами моего деда-художника. Я свыкся с личным телефоном, ванной комнатой и газовой колонкой с горячей водой. Но я хорошо знал, как и всякий советский гражданин, что моя квартира была редким и счастливым исключением. Кругом меня было столько старых, неремонтированных домов, где в убогих комнатах ютилось по нескольку семей в одном помещении. В этих квартирах передняя называется «проходной комнатой», а возможность ночевать на сундуке в кухне — «углом для одинокого». Шкаф, поставленный поперек или занавеска наискось, отделяют жизнь одной семьи от другой. Такие квадратные метры пола не случайно называются всего-навсего — «жилплощадью».
Однако, при всей ее убогости, «жилплощадь» в Москве является предметом мечтаний тысяч людей, живущих в пригородных мансардах. Они годами копят деньги, чтобы потом, с помощью хитроумных «обменов», приютиться где-нибудь в Москве и начать следующий этап квартирной борьбы «за удобства».
На фоне общего положения москвичей, квартира Яны была неплохой и имела даже ряд «удобств».
Во-первых, она была отдельной. Жили в ней все свои, и была возможность образовать изолированный, замкнутый мирок. Потом, в квартиру, вскоре после воины, провели газ. Искусно воздвигнутые, еще руками Яниного отца, перегородки превратили полуподвал бывшей прачечной в систему небольших комнат. Появилась редкая для московских условий возможность отделить столовую от спальни, коридор от кухни, комнату брата от комнаты сестры.
Район был удобным — много магазинов вокруг и недалеко от метро. Все это и ряд других мелочей облегчали Янину жизнь. Она любила свою квартиру. Очень скоро привязался к этому дому и я. Но по другим причинам.
После вечера тринадцатого ноября прошло несколько дней. Я опять был в гостях у Яны, сидел на диване в одной из комнатушек и рассматривал маленькие подушки, вышитые, наверное, еще ее мамой.
Яна незадолго до того пришла с работы и хлопотала над массой мелких дел, которые так быстро накапливаются в хозяйстве.
Она отставила утюг на зазвеневшую мелодично подставку и начала расправлять небольшие белые манжеты. Манжеты лежали на сером одеяле, закрывавшем овальный стол. Машины манжеты от школьной формы. Яна прогладила их, аккуратно сложила и занялась синими ленточками.
Я смотрел на плавные, уверенные движения ее рук, на аккуратно заштопанный локоть синего заношенного жакета, на бледное лицо, слабо освещенное отсветом настольной лампы и думал, что очень привязался к ней за эти несколько дней.
Инстинктивное чувство осторожности все еще удерживало меня касаться вопроса о моей работе. Яна не расспрашивала меня. Когда-то, во время войны, я рассказал ей полунамеками о своем участии в партизанской борьбе.
С тех пор прошло пять лет. У меня уже не было причин гордиться своим служебным положением. Скорее — наоборот. Я невольно побаивался возможной реакции Яны на мою откровенность. А что, если она заледенеет, как леденели другие мои друзья? Что, если наша дружба, дружба двух людей, хотя и не близких, но давно знающих друг друга, исчезнет при первом упоминании правды?
В конце концов, почему Яна должна оказаться иной? Все, что я знаю о ней, как о человеке, я знаю по догадке, или, как принято называть туманно, — «по интуиции».
Да. Мне известно теперь, что она успела кончить за годы войны Институт Инженеров Коммунального Хозяйства. Я знаю, что она работает инженером-металлистом в конструкторском бюро «Промэп» Министерства электростанций. Я знаком даже с тем, как складывается ее каждодневная жизнь. Рано утром она уезжает на край города в Бауманский район и там девять часов подряд проектирует каркасы для гидростанций по всему Советскому Союзу, редактирует строительные альбомы, проверяет производственные чертежи. Вечером Яна едет через всю Москву обратно домой, чтобы, побродив по магазинам, заняться хозяйственными хлопотами. В эти хлопоты входят и заботы о маленькой сестренке, которой надо помочь вырасти, выучиться и, например, выгладить ленточки для кос. Часто, когда Маша укладывается спать и в соседних окнах уже гаснут огни, Яна раскладывает на овальном столе ватманские листы сверхурочной работы, приносящей дополнительный заработок. Лишние деньги очень нужны в хозяйстве советского инженера.
О ее семье мне неизвестно почти ничего. Брат Андрей, инвалид войны, уехал в Мурманск в надежде найти работу на рыбных промыслах. О других родственниках разговора у нас, пока, не было.
Но если я и знаю, примерно, как Яна живет, то мне трудно предположить, как она думает. Точнее — как она могла бы отнестись к моему званию сотрудника советской разведки.
Однако рискнуть, по-видимому, придется. Ведь я столь упорно старался в последнее время найти хоть кого-нибудь, способного разделить мои сомнения и проблемы. Кого-то, кто бы выслушал меня и не испугался, а захотел понять и помочь. Разве не тайная надежда, что именно Яна окажется таким человеком, приводит меня снова и снова в ее дом?
Да, конечно, страх, что эта надежда не оправдается, держит меня и заставляет пока молчать. Но нельзя же затягивать неизбежный шаг до бесконечности. Что я могу потерять, в конце концов? Еще одного иллюзорного друга?
Я набираюсь решимости.
— Яна, ты так ни разу и не спросила меня, где я работаю. Тебе что — неинтересно?
— Интересно. Но я жду пока ты скажешь сам. Я же не знаю, имеешь ли ты на это право.
Я неловко улыбаюсь и стараюсь подобрать правильные слова.
— Не особенно… Но мне очень хочется тебе сказать… Знаешь… Вообще-то я сотрудник разведывательной службы…
Она поднимает голову и внимательно смотрит на меня.
Я заканчиваю фразу.
— …разведывательной службы, входящей в состав Министерства государственной безопасности.
По Яниному лицу пробегает тень. Она опускает голову и молча продолжает гладить. Я жду. Мы оба, видимо, не знаем, что говорить дальше. Потом я первый не выдерживаю молчания.
— Может быть лучше было не говорить? Моя откровенность тебе, кажется, не особенно понравилась…
— Да нет, — Янин голос звучит очень ясно и она пожимает плечами. — Я чувствовала, что с твоей работой связано что-то необычное, но не думала, конечно, что дело так плохо.
Она берет утюг, выходит из комнаты, возвращается с картонной коробкой и начинает собирать Маше завтрак на утро. Мы опять оба молчим.
Я сижу, рассматривая, механически, вышивку на подушках и не могу отделаться от ощущения, что стал лишним в этой комнате. Чувство своеобразной обиды поднимается в моей душе. В конце концов почему я обязан стыдиться моего положения? На моей совести нет никакого преступления. Почему я должен просить кого-то о понимании, совете, помощи? Неожиданно для себя я говорю Яне почти вызывающим тоном: