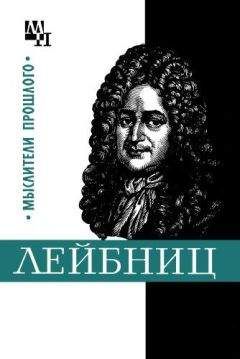«Увы, он все там же, — сказал Фон-Фигин. — Да, он по-прежнему в Шлиссельбурге. Послушай, Вольтер, Екатерина не зря первым делом отправилась к Ивану. Она хотела забрать бывшего императора в Царское Село и устроить его дальнейшую жизнь согласно его происхождению. Увы, это оказалось невозможно. Он не в себе, вернее, он бесповоротно в самом себе и в своем мире; вечный узник в единственно знакомом мире, в тюрьме. Двадцать три года он не видел ничего, кроме каменных стен, ни одного лица, кроме двух своих стражей, он не умеет читать, он не знает ничего о мире за тюремными стенами, он почти не умеет говорить. Знаешь, я никогда не видел Государыню такой угнетенной, как после Ея встречи с бывшим императором. Она как будто возложила это злодеяние на всех Романовых. Дерзаю думать, что Она и сейчас ищет способ, как помочь этому существу. Увы, увы, к этому есть столько препятствий!»
«Послушай, Фодор, а что, если я возьму его к себе в Ферне? — вдруг с юношеским жаром вскричал Вольтер. — Я приручу его! Я просвещу его! Я сделаю это делом моей жизни! Смыслом остатка дней! Отправьте его ко мне, Фодор, Екатерина, Ваше Величество, ваше превосходительство!»
«А ты не подумал, Вольтер, как вздыбится Россия, узнав об этом?» — тихо вопросил Фон-Фигин, но Вольтер его не слышал. «Фодор, душа моя возгорелась этой идеей! Прошу тебя, воздействуй на Ея Величество! Весть об этом благом деле облетит всю Европу и повсеместно возвысит молодую Государыню! Все будут говорить об очередном сокрушении L'Infame! Воздух моих предгорий возродит царевича! Возрождение свергнутого младенца — это войдет в историю! Я призову к нему на помощь всех ангелов этих мест!» Он чуть качнулся в сторону, как бы давая кому-то возможность свободно пролететь мимо его левого уха. А дьяволы-то сами заявятся, куда от них денешься, подумал он, вся эта компания будет шмыгать вокруг с их притирками, примочками, всевозможными пудрами, с их комариными жужжаниями, петушиными восклицаниями, с их неизреченной воньцой непостижимой гнильцы несовершенного века. «Фодор, вообрази, я отдам этого брауншвейгского Ивана в университет, он станет филозофом, быть может, после стольких лет одиночества он привнесет в сей мир какое-нибудь метафизическое откровение!»
Фантазируя, Вольтер ходил по беседке и обеими руками рисовал в воздухе какие-то геометрические фигуры. Фон-Фигин с неопределенной улыбкой следил за ним. Уж этот Вольтер! Каков творитель славы! Придумать же такое! Ей-ей, сия идея стоит сундуков пиастров, пиастров, пиастров! Он лишь не может продумать все до конца, являет неспособность вообразить ярость наших славолюбов, патриотов кнута и ревнителей торговли человеками. Да они же все подымутся в воздух сонмищем отяжелевших стерв! Как, Императора Российского отдать вольнодумцу?! Уж лучше покончить с ним раз и навсегда! Ах, Вольтер, вертопрах парижский! Как дать ему понять, что речь сейчас идет не об утопических мечтаниях, а о спасении от злого умысла?
Тут вдруг все просияло по всей округе, ветер стих, все черти растворились в тончайшем воздухе, и наши собеседники, сочтя сие преображение добрым знаком, отправились на террасу замка ко второму фриштику.
***
Замок «Дочки-Матери» был известен не только своими торжественными анфиладами, но и лабиринтом боковых коридоров. Они были узки, но не так чтобы слишком узки. Пожалуй, в любом из сиих коридоров можно было б уложить поперек цельную фигуру стального рыцаря вместе с шеломом, да еще бы и осталась полосочка пола для юных ног, чтобы проскользнуть мимо оного рыцаря либо босиком, либо в балетных тапочках. Увы, вот чем грешили таковые коридоры, так это полной невозможностью в них разойтись двум величественным штадт-дамам в фижмах добротной кильской работы.
Дамы, конечно, старались избегать этих узких мест, однако воленс-неволенс иной раз случалось, что из-за поворотов в один и тот же момент возникали две подобные персоны, идущие встречным курсом. Чаще всего это происходило, когда дамы забирались в глубины замка, чтобы там за милую душу пошпионить. В таких случаях ничего не оставалось, как либо идти напролом, либо отступить, либо снять юбку с фижмами и пронести ее над головою подобием зонта, либо сблизиться и поболтать.
Именно в таких обстоятельствах завязался диалог между двумя нашими шапероншами, Эвдокией Казимировной Брамсценбергер-Попово, баронессой Готторн, и графиней Марилорой Евграфовной Эссенмусс-Горковато.
«Послушай, Марилора, не напоминает ли тебе кого-нибудь чрезвычайный посланник Фон-Фигин? — вопросила баронесса. — Кого-нибудь из нашего далекого прошлого?»
«Ах, Эвдокия, — вздохнула графиня. — Сей вопрос давно уж пощипывал мой язык, но не решалась я его задать тебе. Ведь ты находишься с ними в изрядно близком родстве».
«Позволь, Мари, а разве Эссенмуссы не породнились с ними посредством брака Амелии Цорндорф и того кавказского князя, имени которого никто не может выговорить?»
Засим в течение довольно долгого времени обе дамы с отменным занудством выясняли различные степени родства в запутанных генеалогических аллеях германских, русских и грузинских семейств, называя кого-то, кого обеим так хотелось назвать по имени, «они», «о них», «им», то есть все-таки не произнося и лишь подталкивая друг дружку к опасному произнесению. Так и хочется залепить этой хитрой интриганке пощечину, думала баронесса. Так и залепила бы, если бы юбки не мешали дотянуться до заштукатуренной щеки! Она вынуждает меня взять на себя опознание Фон-Фигина!
Негодяйка, думала графиня, она задает мне столь опасный вопрос, однако ждет, чтобы не она, а я произнесла это имя.
Обе все— таки были мастерицами околичностей, и имя так и не было произнесено. В одном они все-таки сошлись и, сойдясь, как бы договорились не идти дальше.
«Ты знаешь, он мне как-то странно напоминает Фигхен», — сказала Эвдокия и посмотрела исподлобья на Марилору. Та тут затораторила с такой поспешностью, с какой отпущенная борзая устремляется за зайцем: «До чрезвычайности! До чрезвычайности! Какой-нибудь поворот бедра или стопы, и вот ты видишь: Фигхен бежит, Фигхен кружится, Фигхен настаивает на своем, Фигхен требует повиновения!»
«Ах! — всплеснула руками чувствительная Эвдокия. — А ведь как давно это было, подумать только! Такие изменения произошли в мире, во всех наших пфальцах, в Империи, даже мушки отошли в прошлое, и вдруг… — тут она запнулась и снова попыталась через две юбки заглянуть в глаза своей подруге, — и вдруг появляется рэзюльта, эдакий большущий Фиг!»
Тут обе госдамы подняли над головами свои фижмы и так, без юбок, заскользили в бальное зало, где растерянно остановились, отражаясь в сотне зеркал. Страх на мгновение привел отражения старух в волноообразное движение. Да как же это может быть, если такого просто никак быть не может?!
***
Какие, однако, полнокровные и полезные для мужского здоровья были когда-то эти бабы, думал, скользя мимо по зеркалам магистр черной магии Сорокапуст. Потреблял когда-то их по чуланам чуть ли не каждую ночь, врал он себе. Став почти нетелесным, он приобрел свойство проходить через предметы, а чем старая дама вам не предмет? Изловчившись, Сорокапуст прошел через Эвдокию и даже умудрился пощупать ее шероховатое лоно. Тот же самый кунстштюк он не преминул проделать и с Марилорой. Дамы ахнули и зажали носы: странным образом достигнув почти идеальной бестелесности, магистр не смог избавиться от своей ольфакторной, то есть обоняемой пакости. От всех его промежностей продолжало разить чем-то слежавшимся, да так, что иные обитатели замка, попав в струю, едва ли не падали в обмороки. Так случилось и с дамами цвейг-анштальтского двора, они растянулись на паркете. Сорокапуст, пытаясь вспомнить прошлое, возлег сначала на Эвдокию, потом на Марилору; увы, те не почувствовали его былой тяжести. Весил он сейчас не более комара.
***
Между тем генерал-аншеф Афсиомский, граф Рязанский, влекомый обжигающей обидой, мощно разбрызгивая чернила, покрывал лист за листом плодами своего внезапно нахлынувшего вдохновения. Как, не обратить никакого внимания на толь недюжинную натуру?! Не расслышать многозначительного «туесе», то есть известного всем европейским столицам светского покашливания, демонстративно сворачивать в сторону от поскрипывания боевой ноги? Низвести российского энциклопедиста, маэстро наинтончайшей дипломатии до уровня заурядного коменданта крепости?! Нет, Аруэ, «твой Ксено» тебе больше не твой и никакой не Ксено! Ты уединяешься с представителем Императрицы, то есть отсылаешь меня на кухню? В следующий раз мне, быть может, даже откажут от места за столом? Ты скажешь, мой Вольтер, нет-нет уже не мой и не Вольтер, а просто Франсуа Аруэтик, ты скажешь, что не заметил академика и генерала просто по рассеянности, ты будешь извиняться, клясться в любви, а я тебе на сие отвечу: ежели по рассеянности, то тем паче арроганс, тем паче дэссатисфасьон!
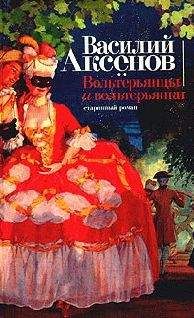
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/108530/108530.jpg)
![Александр Прозоров - Трезубец Нептуна [= Копье Нептуна]](https://cdn.my-library.info/books/107258/107258.jpg)