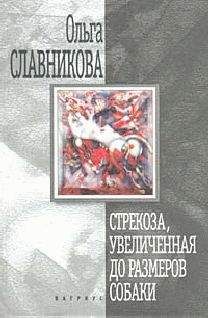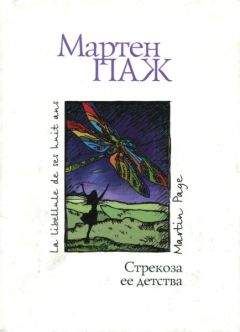Софья Андреевна вообще полагала, что про стыдное говорить нельзя, и ни словом не перемолвилась о случившемся даже с самим Иваном, даже в тот горячий мокрый день, когда Иван завез ее в сарай, размерами намного превышавший побитый кубик особняка,– и в этом превышении было что-то жестокое, торжество дощатой темной пустоты. Во весь остаток пути домой Софья Андреевна в застегнутой до горла кожанке, полной ее нового соленого, рыбного запаха, ни разу не укорила и не обругала виноватого Ивана – более того, улыбалась голым большим лицом на встречном ветру и охотно глядела, куда он указывал взмахом руки и неразборчивым отчаянно-веселым вскриком. Все вокруг крутилось, дробное солнце скакало стаей воробьев. Вместо одного, на что показывал Иван, Софья Андреевна видела сразу десятки городских явлений, от которых отвыкла в деревне, а от овощного открытого лотка, где с яблоком в руке замерла перед весами плечистая продавщица, вдруг напахнуло осенью, первым сентября.
Приободрившийся Иван залихватски проскакивал пустые перед переменою потоков перекрестки, нарочно давил голубино-сизые лужи, пролетая их словно на шумных крыльях поднятой воды. Однако в подъезде, перед открытой дверью в квартиру, куда растерзанная, запоздало зардевшаяся Софья Андреевна поспешила нырнуть, он как-то нехорошо оскалился и, схватив свою пустую, словно натопленную куртку, протянутую ему через порог голой мягкой рукой, обрушился вниз по лестнице, спрыгивая с последних ступеней и звучно хлопаясь подошвами о площадки. Получилось, что они буквально бросились в разные стороны, не сказав друг другу даже вежливого слова, и это произошло настолько неожиданно, что Софья Андреевна не успела и ахнуть, как осталась одна.
Нежилая душная квартира, с позабытым три недели назад полотенцем на спинке стула, с черным пятном томатного соуса на плите, встретила ее удивительно ровным молчанием: стояли часы. Ей надо было многое успеть за вечер – помыться, постирать,– надо было с утра бежать в районо с бумагами, чтобы после не опоздать на единственный удобный рейсовый автобус. Но, оглушенная, она никак не могла включиться обратно в жизнь, хотя бы смыть с горящего тела любовный рассол, и вместо этого бродила в кое-как завязанном халате, поддевая босой ногой заскорузлые остатки крепдешиновой блузки, ставшие похожими на грубую и яркую бумагу – на обертку какой-то покупки, брошенную на пол. Так проваландалась она бессмысленно долго, до самого глухого времени ночи, пока в незанавешенных окнах не осталось ничего, кроме маслянистых отражений, отличавшихся какой-то вытянутой стройностью, не присущей реальным вещам ее жилья. Она потеряла в квартире служебные бумаги, привезенную с собой зубную щетку. Явившийся наутро беспорядок был таков, как если бы она взялась за генеральную уборку, но в действительности она не делала ничего, только сидела то здесь, то там, иногда брала какую-нибудь книгу – поначалу выдирала тома из плотных рядов, а потом они сами падали ей на руки из оставшихся развалин, а из них выскальзывали, вертко трепетнув лопастями, засушенные растения.
То была всего лишь первая ее одинокая ночь невесты: потом они пошли подряд и составили целый провал, отличаясь от замужних бессонниц особенной прозрачностью, когда, сидя на диване, можно было дотянуться рукой до новенькой люстры и в то же время нельзя было даже шевельнуться, чтобы не замутить ярчайшей пустоты горящего электричества. Не отдавая себе отчета, Софья Андреевна ждала. Даже мысль, что Иван давно храпит на своей общежитской койке или гуляет с мужиками, вовсе не собираясь к Софье Андреевне,– даже полная в этом уверенность не освобождала ее, а только заставляла набираться терпения на более долгий срок. Она еще неудобней горбилась: на табуретке, на стуле, на краю забрызганной ванны, куда со свербящим пришлепом падала из крана забытая ею переменчиво-монотонная струйка воды. Усилия, чтобы вымыть туфли или пожарить яичницу, казались ей непомерными – тем непомернее, чем больше она думала об этом и чем дольше откладывала дела,– и доходило до того, что, плюхнувшись на сбитую постель, она уже не могла приподняться и стянуть халат и от этого не могла по-настоящему заснуть – до самого рассвета слушала, как стучат и бормочут трубы, как окрепшая струя, урча, клубясь в горячей толще воды, переполняет ванну.
Так Софья Андреевна теперь и дремала – в пропотевшем халате и колючей комбинации, лежа в серой своей постели, будто селедка в газете,– и наутро ее пробирала сыпучая дрожь. За два неполных месяца, что оставались до сентября, Софья Андреевна сильно опустилась, обрюзгла, стоптала туфли в каменные опорки. Особенно когда она, пытаясь помолодеть для Ивана, покрасила свои густейшие жесткие волосы в парикмахерскую желтизну, стало заметно, что у нее лицо алкоголички,– так что даже завуч Ирина Борисовна, отпускная и золотистая, как свежий батон, встретив Софью Андреевну в универмаге, поставила брови углом над округлившимися глазами и не поздоровалась. В тот день, когда Софья Андреевна узнала в женской консультации о своей беременности, две суровые нитки протянулись с концов ее опущенного рта, чтобы после разветвиться по всему лицу: дочь, когда подросла, принимала материнские морщины за нервы, про которые говорили по телевизору. От постоянного, почти не замечаемого голода у Софьи Андреевны звенело в ушах.
Всё-таки именно в эти месяцы до свадьбы Софья Андреевна только и любила Ивана по-настоящему. Иван то появлялся, то исчезал: случалось, звонил неизвестно откуда в учительскую (превращавшуюся при лягушачьих звуках его голоса из трубки в какой-то отрешенно-внимательный, автоматический в движениях механизм),– звонил, велел дожидаться его вечерком, а сам возникал из нестерпимо почужевшего и как бы опрощенного пространства денька через три, веселый, дышащий горячими спиртовыми парами, совершенно не видящий разницы между своим объявленным приходом и этим, полагавший, что выполнил обещание просто немного времени спустя. Опаздывая таким нечеловеческим образом – словно время не делилось и не различалось для него по суткам и ему не требовалось ни есть, ни спать,– он всегда прибегал запыхавшийся, выигравший напоследок несколько минут, страшно собой довольный. Один раз – и через годы, в свои невеселые праздники, Софья Андреевна вспоминала этот возмутительный случай с необъяснимой нежностью,– один раз он даже гнался за ней по улице, свистящей грудью в сбитом на сторону галстуке наскакивая на встречных. Обернувшись на посторонний шорох, Софья Андреевна увидала дикую фигуру, странно кривоногую на резком, яростно топочущем бегу. Большие перепончатые листья тополей, уже летавшие над улицей, степенно черпая холодный августовский воздух, вились над фигурой, словно птицы преследовали обезумевшую жертву,– и когда осклабленный Иван налетел, Софья Андреевна вдруг ощутила себя такой молоденькой, какой не бывала ни разу в жизни, и стоило ей вспомнить этот миг на загроможденной предпраздничной кухне, как она уже не могла совладать с обидой, готовой гнать ее от кухни и от дочери на край земли.
Случалось, и Иван, не желавший ни знать, ни учитывать рабочего расписания Софьи Андреевны, дожидался ее прихода. Но при этом он не впадал в ожидание, которое у Софьи Андреевны постепенно тормозило все ее дела и в конце концов выставляло ее неодушевленным предметом на поверхности прочих вещей – оставляло лежащей на поверхности своей измученной постели точно в такой же позе, в какой Катерина Ивановна нашла ее мертвой, уже не имеющей отношения ни к опрокинутому стакану, ни к горящему на полу ночнику. Софью Андреевну умиляло, что Иван, не застав ее дома, не уходит, сидит на лестнице (ей ни разу не ударило в голову соединить неприличные рисунки простым карандашиком, что засеребрились тут и там по угрюмой покраске стены, и его неунывающий досуг),– но однажды, вернувшись после родительского собрания, она обнаружила Ивана уже у соседки. Вернее, он обнаружился сам: они оба вывалились на площадку, едва заслышав, как Софья Андреевна открывает свой замок: соседка, крючконосая ученая дама, обыкновенно никого вокруг не замечавшая, распиналась разными позами между своих косяков и дышала глубоко, округло, будто марля, натянутая на форточку.
В скором времени Иван перезнакомился со всем подъездом: эти люди, каждый больше со своей манерой сбегать по ступенькам, чем со своим лицом, бывшие для Софьи Андреевны скорее порождением лестничных пролетов, чем такими же, как она, жильцами, вдруг обрели физиономии и разобрались по квартирам, откуда высовывались, стоило Ивану кашлянуть внизу. Все они испытывали к нему какие-то чувства вплоть до ненависти – со стариком из двенадцатой квартиры Иван вообще подрался, вырывая из его угловато махавших рук то, что старик яростно хватал у себя в прихожей,– смутные личности, начинавшие здороваться друг с другом только возле собственного крыльца и в городе друг друга не признававшие, вдруг слились чуть ли не в коллектив, и чем живее делались их отношения с Иваном, тем более чужды становились они для Софьи Андреевны.